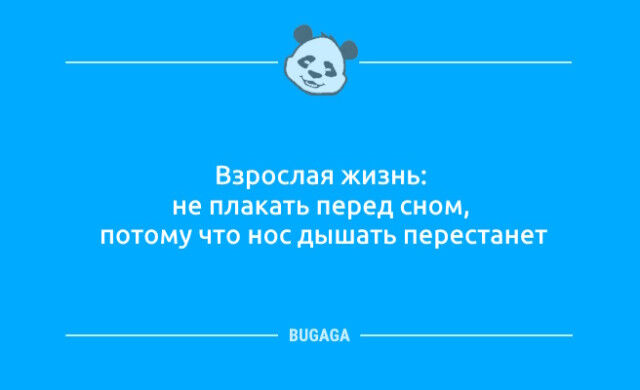Kazibei
Снарядный голод ( 1 фото )
- мини-цикл, ч. 1.

В начале лета 1915 года Россию облетело известие об отставке военного министра В.А. Сухомлинова, преемником которого стал близкий к оппозиционным думским кругам генерал А.А. Поливанов. Его назначение в обществе связывали с давно уже ожидаемыми уступками монархии Государственной Думе, в то же время рассматривая увольнение "запятнанного мясоедовской историей" Сухомлинова как попытку окружения Николая II снять с себя ответственность за военные неудачи. Отставку также связывали со "снарядным голодом" и общей нехваткой военных припасов, которыми в Ставке и обществе объяснялись все поражения последних недель.
В действительности же эти проблемы носили комплексный характер, весьма опосредованно связанный с личностью известного своим "жизнелюбием" и неизменным оптимизмом Сухомлинова, и отражали общую неготовность России к той тотальной войне, что началась в 1914 году. Русская армия испытывала нехватку вообще всего - от винтовок и патронов к ним до грузовиков и самолетов. В разгар германского наступления кто-то из стратегов Ставки предложил вооружать прибывающих на фронт солдат бердышами - настолько отчаянным было положение с вооружением.
Подобный же вызов был брошен всем странам-участницам войны. Предвоенные маневры не смогли подготовить полководцев, солдат и народы Европы к размаху предстоящих боевых действий. Так, французская артиллерия начала испытывать нехватку снарядов уже в битве на Марне, в сентябре 1914 года, а британская армия и через полгода после начала войны не могла осуществить задуманных операций, поскольку не располагала ни необходимым количеством тяжелой артиллерии, ни достаточным запасом снарядов. Немцы и австрийцы тоже оказались не готовы к тому чудовищному расходу боеприпасов, которые потребовались в боях во Франции или Польше.
Разница была в реакции на эти проблемы. В Великобритании и Франции общество сразу было поставлено в известность об имевшихся трудностях, а военная промышленность попала под централизованное управление государственных структур. В Германии и Австро-Венгрии военная бюрократия осуществила схожие меры, продемонстрировав миру возможности "военного социализма". В Российской империи власти, в том числе и военный министр Сухомлинов, в публичных заявлениях утверждали, что никаких проблем нет и в армии имеются разве что трудности санитарно-медицинского характера.
Когда же в мае 1915 года скрыть поражение на Юго-Западном фронте оказалось уже невозможным, бодрые рапорты "с переднего края" сменились паническими сообщениями, призванными заретушировать бездарность Ставки нехваткой снарядов и военной амуниции. О частной корреспонденции солдат и офицеров действующей армии нечего было и говорить - столкнувшаяся с германским наступлением российская пехота чрезвычайно остро реагировала на молчание собственной артиллерии и постоянное присутствие в воздухе вражеских аэропланов. Теперь-то Сухомлинову припомнили все, хотя военный министр уже в сентябре 1914 года пытался наладить производство боеприпасов.
Это оказалось невозможным по двум причинам. Во-первых, из-за промышленной отсталости Российской империи по сравнению с ее союзниками и противниками, а во-вторых, из-за отсутствия организации, способной взяться за разрешение возникших проблем. Ни царь, ни Ставка не могли заменить ее - и колесо российской бюрократии продолжало крутиться впустую. Военные заказы на Западе размещались бессистемно, в прифронтовой полосе усилиями великого князя был создан настоящий административный хаос, а в остальной России правил царь, неспособный даже провести элементарное заседание собственного правительства.
Однако теперь, когда козел отпущения был и найден, и изгнан, монархия все же решилась обратиться к обществу за помощью в преодолении трудностей с военным производством.
(с)

В начале лета 1915 года Россию облетело известие об отставке военного министра В.А. Сухомлинова, преемником которого стал близкий к оппозиционным думским кругам генерал А.А. Поливанов. Его назначение в обществе связывали с давно уже ожидаемыми уступками монархии Государственной Думе, в то же время рассматривая увольнение "запятнанного мясоедовской историей" Сухомлинова как попытку окружения Николая II снять с себя ответственность за военные неудачи. Отставку также связывали со "снарядным голодом" и общей нехваткой военных припасов, которыми в Ставке и обществе объяснялись все поражения последних недель.
В действительности же эти проблемы носили комплексный характер, весьма опосредованно связанный с личностью известного своим "жизнелюбием" и неизменным оптимизмом Сухомлинова, и отражали общую неготовность России к той тотальной войне, что началась в 1914 году. Русская армия испытывала нехватку вообще всего - от винтовок и патронов к ним до грузовиков и самолетов. В разгар германского наступления кто-то из стратегов Ставки предложил вооружать прибывающих на фронт солдат бердышами - настолько отчаянным было положение с вооружением.
Подобный же вызов был брошен всем странам-участницам войны. Предвоенные маневры не смогли подготовить полководцев, солдат и народы Европы к размаху предстоящих боевых действий. Так, французская артиллерия начала испытывать нехватку снарядов уже в битве на Марне, в сентябре 1914 года, а британская армия и через полгода после начала войны не могла осуществить задуманных операций, поскольку не располагала ни необходимым количеством тяжелой артиллерии, ни достаточным запасом снарядов. Немцы и австрийцы тоже оказались не готовы к тому чудовищному расходу боеприпасов, которые потребовались в боях во Франции или Польше.
Разница была в реакции на эти проблемы. В Великобритании и Франции общество сразу было поставлено в известность об имевшихся трудностях, а военная промышленность попала под централизованное управление государственных структур. В Германии и Австро-Венгрии военная бюрократия осуществила схожие меры, продемонстрировав миру возможности "военного социализма". В Российской империи власти, в том числе и военный министр Сухомлинов, в публичных заявлениях утверждали, что никаких проблем нет и в армии имеются разве что трудности санитарно-медицинского характера.
Когда же в мае 1915 года скрыть поражение на Юго-Западном фронте оказалось уже невозможным, бодрые рапорты "с переднего края" сменились паническими сообщениями, призванными заретушировать бездарность Ставки нехваткой снарядов и военной амуниции. О частной корреспонденции солдат и офицеров действующей армии нечего было и говорить - столкнувшаяся с германским наступлением российская пехота чрезвычайно остро реагировала на молчание собственной артиллерии и постоянное присутствие в воздухе вражеских аэропланов. Теперь-то Сухомлинову припомнили все, хотя военный министр уже в сентябре 1914 года пытался наладить производство боеприпасов.
Это оказалось невозможным по двум причинам. Во-первых, из-за промышленной отсталости Российской империи по сравнению с ее союзниками и противниками, а во-вторых, из-за отсутствия организации, способной взяться за разрешение возникших проблем. Ни царь, ни Ставка не могли заменить ее - и колесо российской бюрократии продолжало крутиться впустую. Военные заказы на Западе размещались бессистемно, в прифронтовой полосе усилиями великого князя был создан настоящий административный хаос, а в остальной России правил царь, неспособный даже провести элементарное заседание собственного правительства.
Однако теперь, когда козел отпущения был и найден, и изгнан, монархия все же решилась обратиться к обществу за помощью в преодолении трудностей с военным производством.
(с)
Взято: Тут