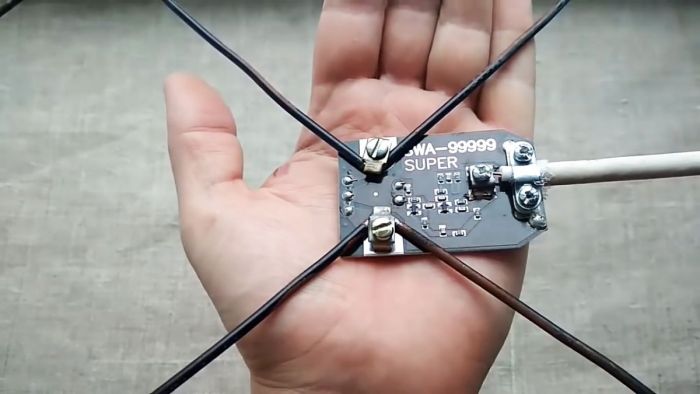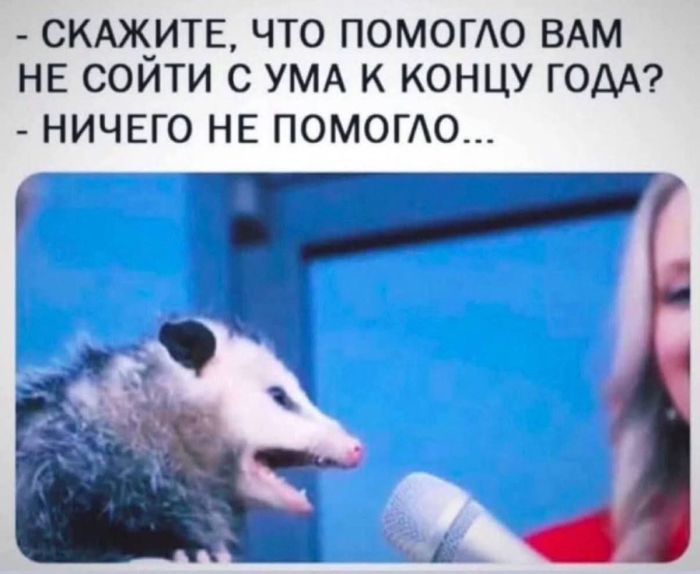Zalore
Одна находка ( 1 фото )
- открытие небольшого литзначения.

Тута ходют тилигентные люди у одетых шляпах, поэтому наверняка знают, что Никифор Ляпис-Трубецкой - это довольно колкая пародия на Владимира Маяковского. Не только на него, конечно, но и [в том числе]. Лиля Брик - Хина Члек, "О хлебе, качестве продукции и о любимой" - "О фиаско, апогеях и других неведомых вещах". Но главная задача автора Гаврилиады заключалась в том, чтобы показать читателю "халтуртрегера", скрывающего собственную бездарность за образом "пролетарского творца".
Вообще, веселый одесский дуэт обожал литературные пародии и отсылки, как это теперь называют. Другой вопрос, что пародировать и отсылать можно было не всё и не всех. Халтуртрегерство Ильф и Петров ненавидели открыто - и это дозволялось. Почему бы не поиздеваться над малограмотными коллегами по цеху, в "сверхударные темпы" обещавшими "дать высокохудожественной литературы на колхозную тематику"? Валерьян Молокович, работающий над "идеологически выдержанным" романом "Апатиты" и выезжающий для этой цели на месторождения "этого полевого шпата".
Литературная тема - одна из любимых в творчестве писателей. Особенно это заметно по их фельетонам тридцатых, где "политически ангажированные" (будем выражаться учтиво) тексты встречаются не часто. Но даже там, где "заказ" очевиден, авторы все равно старались пройти по краю, написав о чем-то "своем". И речь тут вовсе не про "фигу в кармане" советской власти - ее не было, а про то "человеческое", проявления которого возможны при любых социальных и общественных формациях.
Говоря проще, ставлю ваш зуб на то, что писателям эти темы были противны. Они не умели их художественно "отобража", что и высмеяли однажды в самопародии (фельетон "Отрицательный тип"). Это, с одной стороны, делает ильф-петровские фельетоны тридцатых годов читаемыми (и читаемыми с удовольствием), а с другой - постороннему человеку, прилетевшему на развалины нашей планеты, допустим, из Альфа Центавры, составить себе представление о сталинском Союзе будет совершенно невозможно.
Нужен контекст, а откуда его взять постороннему человеку из далекой звездной системы? Подумает, разве, что в этой цивилизации очень переживали насчет литературы - и полетит себе в ближайшую гостиницу. Ну или где там будут ночевать в далеком будущем - летающих хрустальных сферах, быть может? Не суть - важно, что не поймет и не узнает о том, что на самом деле волновало подавляющее большинство жителей советского государства.
Все это была преамбула, а амбула - она вот. Про Маяковского, как уже было сказано, знают почти все. Но известно ли вам, что Ильф с Петровым пародировали и Корнея Ивановича? В смысле - Чуковского и его "Мойдодыра". Случилось это в самом конце 1932 года, в малоизвестном ныне фельетоне "Урок словесности". Посыл заключался в преждевременности записывания в "литературные классики", а пародия вышла довольная злая.
Судите сами:
Молодой, но уже довольно известный профессор литературы поднялся на кафедру и звонким голосом сказал:
— Товарищи, предметом моей сегодняшней лекции является общий обзор современной литературы.
Сорок студентов и студенток, не сводя доверчивых глаз с профессора, раскрыли общие тетради и приготовились записывать. <...>
Из важных вопросов остался неосвещенным только вопрос хулиганства в детских кинотеатрах, но, по имеющимся у меня достоверным сведениям, известный поэт, товарищ Паисия Хлопотухина, уже отображает этот вопрос в отдельной поэме. Так что и этот пробел, товарищи, будет в самое ближайшее время заполнен. Итак, если говорить о творчестве Паисии Хлопотухиной, дающем яркий, сочный пример роста детской литературы...
— Простите, товарищ профессор, - раздался голос из второго ряда, - какой же это пример роста, если в последнем номере журнала «Литературный обозреватель» напечатана статья детского писателя Еремея Соскина о том, что Паисия Хлопотухина просто пошлячка и приспособленка, что от ее стихов дети тупеют и теряют волю к учебе.
— Да что вы говорите? - удивился профессор. — А я не читал! Сам Еремей Соскин написал? Не может быть!
— Пожалуйста, товарищ профессор, вот этот журнал.
— Покажите-ка! М-да! Та-ак... Ну-с, товарищи, внимание! Я продолжаю. Таким образом, товарищи, если творчество поэта Хлопотухиной, как это только что выяснилось, не дает яркого, сочного примера роста детской литературы, то с тем большей радостью мы можем констатировать блестящие успехи всеми нами уважаемого Еремея Соскина. Ну разве это не прелестные строки? Почему мы не маленькие дети, чтобы вместе с автором не воскликнуть:
Пироги за утюгами,
Утюги за сапогами,
Сапоги за подтяжками,
За ними брюкодержатели,
А за брюкодержателями читатели.
Ну, разве это не прелесть?
— Конечно, не прелесть! — послышался голос. — Ослы за козлами, козлы за слонами, за слонами мошки, за таковыми кошки. И так далее. Это каждый может написать. Тут не требуется ни вдохновения, ни прилежания.
— Это выпад против товарища Соскина! - воскликнул профессор.
— А мне все-таки не нравится, — упрямо повторил студент. — Кроме того, в журнале «Критик и практик» я прочел коллективное письмо трех педагогов, в котором они протестуют против сюсюканья Еремея Соскина.
— Ну, что там письмо! Мало ли кто пишет письма! — заметил лектор. — Это не может отразиться на оценке Еремея Соскина как ведущего детского поэта.
— Но ведь там, товарищ профессор, под письмом имеется комментарий редакции.
— Какой комментарий? — забеспокоился профессор. — Я не видел никакого комментария.
— Под самым письмом петитом напечатано, что редакция вполне солидаризируется с мнением трех педагогов.
— Солидаризируется? Гм-м! Интересно! А я как-то не обратил внимания. Не успеваешь, знаете, за всем уследить. Да-а! Та-ак-с... Ну, что ж, не будем терять драгоценного времени на детскую литературу. В конце концов, товарищи, мы ведь не дети. Перейдем, так сказать, к взрослой литературе. Наша художественная литература непрерывно растет, крепнет, ширится, укрепляется, расширяется и, так сказать, усиливается и вырастает. <...>
...
Еремей - Корней, а...
...Утюги за сапогами,
Сапоги за пирогами,
Пироги за утюгами,
Кочерга за кушаком —
Всё вертится,
И кружится,
И несётся кувырком.
"Беззубое сюсюканье" Чуковского в очередной раз вышло ему боком. Впрочем, антисоветски настроенный Корней Иванович благополучно пережил всех хулителей, а вот до Ильфа и Петрова советская власть не добралась, кажется, только чудом - благодаря печальному распаду дуэта. Но о писателях не забыла и на излете сороковых чуть было не вырезала их из литературы (и библиотек). Обошлось.

Тута ходют тилигентные люди у одетых шляпах, поэтому наверняка знают, что Никифор Ляпис-Трубецкой - это довольно колкая пародия на Владимира Маяковского. Не только на него, конечно, но и [в том числе]. Лиля Брик - Хина Члек, "О хлебе, качестве продукции и о любимой" - "О фиаско, апогеях и других неведомых вещах". Но главная задача автора Гаврилиады заключалась в том, чтобы показать читателю "халтуртрегера", скрывающего собственную бездарность за образом "пролетарского творца".
Вообще, веселый одесский дуэт обожал литературные пародии и отсылки, как это теперь называют. Другой вопрос, что пародировать и отсылать можно было не всё и не всех. Халтуртрегерство Ильф и Петров ненавидели открыто - и это дозволялось. Почему бы не поиздеваться над малограмотными коллегами по цеху, в "сверхударные темпы" обещавшими "дать высокохудожественной литературы на колхозную тематику"? Валерьян Молокович, работающий над "идеологически выдержанным" романом "Апатиты" и выезжающий для этой цели на месторождения "этого полевого шпата".
Литературная тема - одна из любимых в творчестве писателей. Особенно это заметно по их фельетонам тридцатых, где "политически ангажированные" (будем выражаться учтиво) тексты встречаются не часто. Но даже там, где "заказ" очевиден, авторы все равно старались пройти по краю, написав о чем-то "своем". И речь тут вовсе не про "фигу в кармане" советской власти - ее не было, а про то "человеческое", проявления которого возможны при любых социальных и общественных формациях.
Говоря проще, ставлю ваш зуб на то, что писателям эти темы были противны. Они не умели их художественно "отобража", что и высмеяли однажды в самопародии (фельетон "Отрицательный тип"). Это, с одной стороны, делает ильф-петровские фельетоны тридцатых годов читаемыми (и читаемыми с удовольствием), а с другой - постороннему человеку, прилетевшему на развалины нашей планеты, допустим, из Альфа Центавры, составить себе представление о сталинском Союзе будет совершенно невозможно.
Нужен контекст, а откуда его взять постороннему человеку из далекой звездной системы? Подумает, разве, что в этой цивилизации очень переживали насчет литературы - и полетит себе в ближайшую гостиницу. Ну или где там будут ночевать в далеком будущем - летающих хрустальных сферах, быть может? Не суть - важно, что не поймет и не узнает о том, что на самом деле волновало подавляющее большинство жителей советского государства.
Все это была преамбула, а амбула - она вот. Про Маяковского, как уже было сказано, знают почти все. Но известно ли вам, что Ильф с Петровым пародировали и Корнея Ивановича? В смысле - Чуковского и его "Мойдодыра". Случилось это в самом конце 1932 года, в малоизвестном ныне фельетоне "Урок словесности". Посыл заключался в преждевременности записывания в "литературные классики", а пародия вышла довольная злая.
Судите сами:
Молодой, но уже довольно известный профессор литературы поднялся на кафедру и звонким голосом сказал:
— Товарищи, предметом моей сегодняшней лекции является общий обзор современной литературы.
Сорок студентов и студенток, не сводя доверчивых глаз с профессора, раскрыли общие тетради и приготовились записывать. <...>
Из важных вопросов остался неосвещенным только вопрос хулиганства в детских кинотеатрах, но, по имеющимся у меня достоверным сведениям, известный поэт, товарищ Паисия Хлопотухина, уже отображает этот вопрос в отдельной поэме. Так что и этот пробел, товарищи, будет в самое ближайшее время заполнен. Итак, если говорить о творчестве Паисии Хлопотухиной, дающем яркий, сочный пример роста детской литературы...
— Простите, товарищ профессор, - раздался голос из второго ряда, - какой же это пример роста, если в последнем номере журнала «Литературный обозреватель» напечатана статья детского писателя Еремея Соскина о том, что Паисия Хлопотухина просто пошлячка и приспособленка, что от ее стихов дети тупеют и теряют волю к учебе.
— Да что вы говорите? - удивился профессор. — А я не читал! Сам Еремей Соскин написал? Не может быть!
— Пожалуйста, товарищ профессор, вот этот журнал.
— Покажите-ка! М-да! Та-ак... Ну-с, товарищи, внимание! Я продолжаю. Таким образом, товарищи, если творчество поэта Хлопотухиной, как это только что выяснилось, не дает яркого, сочного примера роста детской литературы, то с тем большей радостью мы можем констатировать блестящие успехи всеми нами уважаемого Еремея Соскина. Ну разве это не прелестные строки? Почему мы не маленькие дети, чтобы вместе с автором не воскликнуть:
Пироги за утюгами,
Утюги за сапогами,
Сапоги за подтяжками,
За ними брюкодержатели,
А за брюкодержателями читатели.
Ну, разве это не прелесть?
— Конечно, не прелесть! — послышался голос. — Ослы за козлами, козлы за слонами, за слонами мошки, за таковыми кошки. И так далее. Это каждый может написать. Тут не требуется ни вдохновения, ни прилежания.
— Это выпад против товарища Соскина! - воскликнул профессор.
— А мне все-таки не нравится, — упрямо повторил студент. — Кроме того, в журнале «Критик и практик» я прочел коллективное письмо трех педагогов, в котором они протестуют против сюсюканья Еремея Соскина.
— Ну, что там письмо! Мало ли кто пишет письма! — заметил лектор. — Это не может отразиться на оценке Еремея Соскина как ведущего детского поэта.
— Но ведь там, товарищ профессор, под письмом имеется комментарий редакции.
— Какой комментарий? — забеспокоился профессор. — Я не видел никакого комментария.
— Под самым письмом петитом напечатано, что редакция вполне солидаризируется с мнением трех педагогов.
— Солидаризируется? Гм-м! Интересно! А я как-то не обратил внимания. Не успеваешь, знаете, за всем уследить. Да-а! Та-ак-с... Ну, что ж, не будем терять драгоценного времени на детскую литературу. В конце концов, товарищи, мы ведь не дети. Перейдем, так сказать, к взрослой литературе. Наша художественная литература непрерывно растет, крепнет, ширится, укрепляется, расширяется и, так сказать, усиливается и вырастает. <...>
...
Еремей - Корней, а...
...Утюги за сапогами,
Сапоги за пирогами,
Пироги за утюгами,
Кочерга за кушаком —
Всё вертится,
И кружится,
И несётся кувырком.
"Беззубое сюсюканье" Чуковского в очередной раз вышло ему боком. Впрочем, антисоветски настроенный Корней Иванович благополучно пережил всех хулителей, а вот до Ильфа и Петрова советская власть не добралась, кажется, только чудом - благодаря печальному распаду дуэта. Но о писателях не забыла и на излете сороковых чуть было не вырезала их из литературы (и библиотек). Обошлось.
Взято: Тут