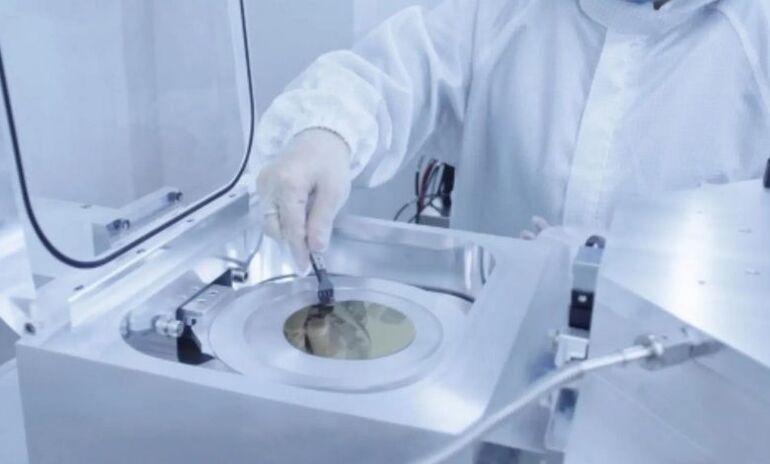Frostseeker
Сказки о ветрах, облаках и конфетах с странной начинкой ( 11 фото )
На днях умерла Софья Прокофьева.


Не знаю, какое место она занимает в культуре постсоветской России. Подозреваю, что никакое. И я понятия не имею, чем она занималась после 1990 года – в общем, и знать не хочу. Потому что она была от начала до конца советским писателем, во всех смыслах слова. Возможно, она пыталась приспособиться к новым условиям. Возможно, она выплеснула всё то, что было подавлено в ней советской системой – неважно. Она было очень существенной деталью механизма советской культуры и бессмысленым обломком, «одрадеком», по выражению Кафки, после возвращения дикого империализма.
Софья Прокофьева была представителем русской кульутрной элиты ХХ века, ни больше не меньше. Связанная с ироническим интеллектуализмом Сергея Прокофьева с одной стороны – с оккультным подпольем, с другой. Я хочу оговориться: оккультизм Прокофьевой не был мистическим, как у Алисы Порет, Витковича и Ягдфельда. Она была гораздо ближе к рационализму «человекостроения» Андрея Белого, Макса Волошина и Рудольфа Штайнера, и не случайно её сын стал одним из лидеров современной антропософии.
Почему я называю Софью Прокофьеву именно «советским» писателем? Такова её судьба, таковы ей тексты. Она начинала, как иллюстратор, и непечатающаяся поэтесса, но, несмотря на признание в узких кругах самых продвинутых интеллектуалов (не интеллигентов) России, быстро поняла, что поэзия в условиях советской культуры – путь в тупик, и предпочла затаиться в одной из самых непросматриваемых сверху чащоб советской литературы – в детской литературе. Вы знаете, что самые умные советские писатели из нежелающих бороться с функционерами от литературы, но, в то же время, не желающих идти на компромиссы, уходили в детскую литературу – Голявкин, Вольф, Стрелкова, Радий Погодин, Крапивин, Драбкина и десятки других, всех не перечислить.



Когда-то я пытался написать большую статью, анализирующую социальный ландшафт сказок Софьи Прокофьевой – форму функционирования описываемого ею дистопических обществ, в которов спонтанно возникают очаги сопротивления государственному террору, но потом решил, что это никому не нужно. Вкратце могу сказать, что это довольно интересный взгляд на общество именно с точки зрения советского человека. Общество, как таковое, Прокофьева мыслила как анархо-синдикалистскую комунну, не нуждающуюся в контроле и регулировании – возможно, это заимствовано из исторического опыта городов Ганзы (сомнительно) или из пьесы Тамары Габбе «Город мастеров» (что более похоже на правду). И это самодостаточное общество накрыто сверху государством, оказывающимся не более чем паразитом, оккупационной структурой, непринуждённо грабящей всех, кто оказывается в пределах досягаемости.


Но - оставим это. Посмотрим, на какие части можно разделить литературное наследие Софьи Прокофьевой советского периода. Это, во-первых, «современные» сказки, показывающие различные последствия фармакологической коррекции личности. Самая знаменитая (но отнюдь не единственная) сказка этого цикла – «Приключения желтого чемоданчика», 1965 год. Уважаемая Московица непременно отметила бы влияние этого текста (равно, как и «Зелёной пилюли») на творчество и телесные практики Филиппа К. Дика и на ранние фильмы Дэвида Кроненберга, но я, пожалуй, воздержусь от поиска интертекстуальных связей. Во-вторых, сказки о параллельных мирах, в которых существуют вышепомянутые социумы, парадоксально совмещающие анархизм с абсолютистской монархией и обладающие минимальными «волшебными» элементами. В сущности, это не столько сказки, сколько фэнтези, ибо, например, в моей любимой «Сказке о ветре в безветренный день» волшебства нет вообще. Никакого. И это сближает книгу Софьи Прокофьевой с «Тремя толстяками» Олеши. Остальные тексты Прокофьевой не так важны и не так интересны – сказки для маленьких и психоделические провалы в воображаемые миры, из которых можно выбраться только случайно – «На старом чердаке», и так далее. Это, я бы сказал, перенос морализаторских принципов «Сильви и Бруно» Льюиса Кэррола на почву советской литературы. Изящно, но не особо нужно.



Как реагировала публика на книги Софьи Прокофьевой? С восторгом. Все они мгновенно становились бестселлерами, а «Сказка о ветре» была выпущена дважды с интервалом в год – случай, для советской издательской практики, уникальный. Были ли книги Прокофьевой экранизированы? Да, один раз. После того, как у Прокофьевой возникли проблемы из-за того, что кто-то из высших партийных функционеров прочёл «Сказку о ветре», Илья Фрез тут же дал экранизацию «Желтого чемоданчика», чтобы показать, до какой степени Прокофьева советская. Эта экранизация 1970 года сама по себе заслуживает подробного разбора, поскольку является сознательной стилизацией и развитием «Сказки о потеряном времени» Птушко, но такой разбор отвлёк бы нас слишком далеко от Софьи Прокофьевой.
Остальные экранизации не заслуживают анализа. Даже мультфильм «Зелёная пилюля», сам по себе хороший, является не больше чем сокращённым пересказом исходного текста, а про «Пока бьют часы» без слёз говорить не возможно.

В общем, Софья Прокофьева была хорошая, и книги у неё тоже были хорошие. Аминь.


Не знаю, какое место она занимает в культуре постсоветской России. Подозреваю, что никакое. И я понятия не имею, чем она занималась после 1990 года – в общем, и знать не хочу. Потому что она была от начала до конца советским писателем, во всех смыслах слова. Возможно, она пыталась приспособиться к новым условиям. Возможно, она выплеснула всё то, что было подавлено в ней советской системой – неважно. Она было очень существенной деталью механизма советской культуры и бессмысленым обломком, «одрадеком», по выражению Кафки, после возвращения дикого империализма.
Софья Прокофьева была представителем русской кульутрной элиты ХХ века, ни больше не меньше. Связанная с ироническим интеллектуализмом Сергея Прокофьева с одной стороны – с оккультным подпольем, с другой. Я хочу оговориться: оккультизм Прокофьевой не был мистическим, как у Алисы Порет, Витковича и Ягдфельда. Она была гораздо ближе к рационализму «человекостроения» Андрея Белого, Макса Волошина и Рудольфа Штайнера, и не случайно её сын стал одним из лидеров современной антропософии.
Почему я называю Софью Прокофьеву именно «советским» писателем? Такова её судьба, таковы ей тексты. Она начинала, как иллюстратор, и непечатающаяся поэтесса, но, несмотря на признание в узких кругах самых продвинутых интеллектуалов (не интеллигентов) России, быстро поняла, что поэзия в условиях советской культуры – путь в тупик, и предпочла затаиться в одной из самых непросматриваемых сверху чащоб советской литературы – в детской литературе. Вы знаете, что самые умные советские писатели из нежелающих бороться с функционерами от литературы, но, в то же время, не желающих идти на компромиссы, уходили в детскую литературу – Голявкин, Вольф, Стрелкова, Радий Погодин, Крапивин, Драбкина и десятки других, всех не перечислить.



Когда-то я пытался написать большую статью, анализирующую социальный ландшафт сказок Софьи Прокофьевой – форму функционирования описываемого ею дистопических обществ, в которов спонтанно возникают очаги сопротивления государственному террору, но потом решил, что это никому не нужно. Вкратце могу сказать, что это довольно интересный взгляд на общество именно с точки зрения советского человека. Общество, как таковое, Прокофьева мыслила как анархо-синдикалистскую комунну, не нуждающуюся в контроле и регулировании – возможно, это заимствовано из исторического опыта городов Ганзы (сомнительно) или из пьесы Тамары Габбе «Город мастеров» (что более похоже на правду). И это самодостаточное общество накрыто сверху государством, оказывающимся не более чем паразитом, оккупационной структурой, непринуждённо грабящей всех, кто оказывается в пределах досягаемости.


Но - оставим это. Посмотрим, на какие части можно разделить литературное наследие Софьи Прокофьевой советского периода. Это, во-первых, «современные» сказки, показывающие различные последствия фармакологической коррекции личности. Самая знаменитая (но отнюдь не единственная) сказка этого цикла – «Приключения желтого чемоданчика», 1965 год. Уважаемая Московица непременно отметила бы влияние этого текста (равно, как и «Зелёной пилюли») на творчество и телесные практики Филиппа К. Дика и на ранние фильмы Дэвида Кроненберга, но я, пожалуй, воздержусь от поиска интертекстуальных связей. Во-вторых, сказки о параллельных мирах, в которых существуют вышепомянутые социумы, парадоксально совмещающие анархизм с абсолютистской монархией и обладающие минимальными «волшебными» элементами. В сущности, это не столько сказки, сколько фэнтези, ибо, например, в моей любимой «Сказке о ветре в безветренный день» волшебства нет вообще. Никакого. И это сближает книгу Софьи Прокофьевой с «Тремя толстяками» Олеши. Остальные тексты Прокофьевой не так важны и не так интересны – сказки для маленьких и психоделические провалы в воображаемые миры, из которых можно выбраться только случайно – «На старом чердаке», и так далее. Это, я бы сказал, перенос морализаторских принципов «Сильви и Бруно» Льюиса Кэррола на почву советской литературы. Изящно, но не особо нужно.



Как реагировала публика на книги Софьи Прокофьевой? С восторгом. Все они мгновенно становились бестселлерами, а «Сказка о ветре» была выпущена дважды с интервалом в год – случай, для советской издательской практики, уникальный. Были ли книги Прокофьевой экранизированы? Да, один раз. После того, как у Прокофьевой возникли проблемы из-за того, что кто-то из высших партийных функционеров прочёл «Сказку о ветре», Илья Фрез тут же дал экранизацию «Желтого чемоданчика», чтобы показать, до какой степени Прокофьева советская. Эта экранизация 1970 года сама по себе заслуживает подробного разбора, поскольку является сознательной стилизацией и развитием «Сказки о потеряном времени» Птушко, но такой разбор отвлёк бы нас слишком далеко от Софьи Прокофьевой.
Остальные экранизации не заслуживают анализа. Даже мультфильм «Зелёная пилюля», сам по себе хороший, является не больше чем сокращённым пересказом исходного текста, а про «Пока бьют часы» без слёз говорить не возможно.

В общем, Софья Прокофьева была хорошая, и книги у неё тоже были хорошие. Аминь.
Взято: Тут
#мартиролог #герменевтика советского образа жизни #дни после детства #литературное #мои любимые книжки
1765