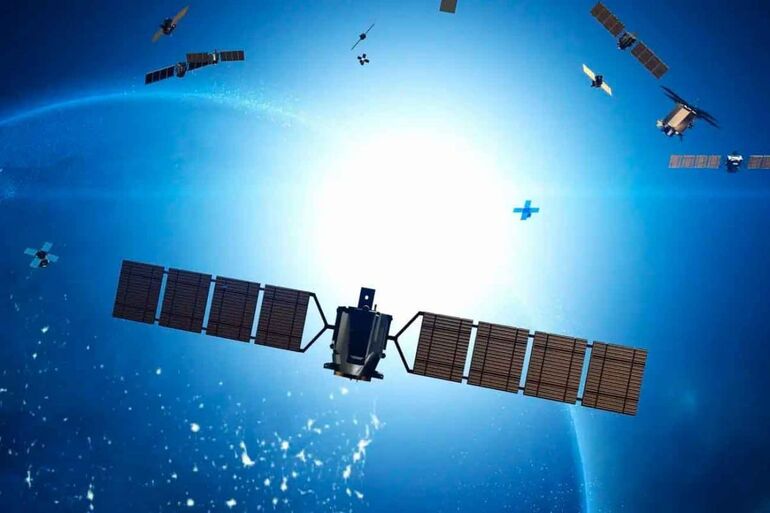popcorn6
Роман Александра Дюма "Двадцать лет спустя" ( 1 фото )
Вторая часть трилогии про мушкетёров содержит симптоматичную регрессию: характер интриги (попытка защитить английского короля от преследований Кромвеля, противостояние фронды и Мазарини внутри Парижа, когда шпагами надо махать направо и налево, ещё и стреляя при этом из мушкетов) резко отбрасывает модерных людей обратно в Средневековье.
Иначе состояние персонажей не натянуть на глобус интриги.
Светочи передовой мысли (внуки Монтеня, практически) и проводники гуманизма, мушкетёры, и, в особенности, Д’Артаньян как самый передовой из них, отступают под натиском исторических обстоятельств, которыми Дюма и кроит интригу второй половины тома, полной битв, погонь, дуэлей, казней и преследований…
…тогда как первая половина «Двадцати лет спустя» намеренно замедленная: сюжет её о том, как Д’Артаньян, попав на глаза Мазарини, пытается собрать старых друзей, чтобы поставить своё ОПГ на службу режиму, оппозиционному не только и не столько королю (Людовик XIV ещё совсем малютка, а вот к Анне Австрийской, матери его, связавшейся с кардиналом, мы по традиции относимся с сочувствием, вспоминая, как она страдала двадцать лет назад в эпоху Ришелье), сколько парижанам и всему ограбленному французскому народу.
Да-да, народ, хотя и под предводительством герцогов и принцев крови, но возникает здесь в качестве субъекта истории.
Пусть пока этот субъект описывается в фоновом режиме (хотя одним из лидеров городского протеста оказывается Планше и его, в отличие от соратников, показывают крупно, с подробностями, хотя и более схематично, чем в «Трёх мушкетёрах»), но именно он позволяет перенести повествовательные акценты (точки зрения) с монологичных (компания мушкетеров как единый актор) на множественные.
При том, что, казалось бы, принципиально мир не меняется и лежит в одной и той же плоскости неразличения: он, разве что наглядно мельчает (богатыри, не вы), сводя всю разницу агрегатных состояний соседних исторических эпох к противопоставлению всемогущего громовержца Ришелье и не-орла Мазарини (этот важнейший лейтмотив второй части позволяет Дюма максимально экономить усилия, не вдаваясь в детализацию контекста).
Тем не менее, внезапно оказывается, что дух истории более не струится единым потоком, но норовит разделиться на составляющие: в нём теперь есть масса противоположно настроенных сил, которые рубятся друг с другом столь последовательно и жестко (а, главное, неотвратимо), что противоречия эти способны расколоть любое единство – даже семейно-мушкетёрское.
Д’Артаньян с Портосом, выступающие на стороне Мазарини оказываются врагами Атоса и Арамиса, топившими за королеву Генриетту и Карла I: эта множественность взглядов и есть равноценная замена передовых устремлений отдельных членов мушкетерского коллектива, так как она более массова и, таким образом, убедительна.
Д’Артаньяну можно регрессировать в Средневековье на фоне общей исторической логики, в которой более нет единства.

Разнонаправленность взглядов и устремлений требует чёткой карты, из-за чего роман долго не может начаться, постоянно утрясая, во-первых, новые обстоятельства и, таким образом, новые вводные, а, во-вторых, выстраивая на этих, новых обстоятельствах, интригу «старого образца» (авантюрную и приключенческую).
Д’Артаньян долго собирает друзей, судьба которых разбросала по разным провинциям и обстоятельствам (зато все они, не в пример гасконцу, существенно разбогатели) и эти промедления оттягивают интригу, подменяя её «процедурой», набором событий, которые необходимо проговорить и даже пережить, для того, чтоб запустить механизм интриги, которой, после того, как она заработала, буксовать уже нельзя.
Начало текста, таким образом, состоит из промежутков и динамичных, но провисаний, делающих «Двадцать лет спустя» немного буржуазно-психологическим: жанр его начинает мутировать в сторону условного Бальзака, покуда (не сразу) автор не запустит интригу, после чего скорости наррации начинают нарастать, вместе с постоянно возрастающим количеством условностей.
Однако, это происходит не сразу, обнажая рельеф нарративного дна – то, что Дюма необходимо проговорить в качестве вспомогательных материалов «бытового фона», с одной стороны, всегда повышено авторефлексивно (то есть, комментирует себя и «проговаривается»), с другой стороны, более механистично, нежели «сцены боёв», и, таким образом, является примером приближения к рамплиссажу «автоматического письма».
Интрига изгоняет ненужные элементы, сводя всю наррацию к сцеплению увлекательных обстоятельств, тогда как подступы к ней полны очаровательных сбоев и задержек, задающих голой схеме сюжета дополнительные атмосферные элементы.
Кстати, именно поэтому фабула «Двадцать лет спустя» оказалась мной совершенно забытой: первую часть любой способен пересказать «близко к тексту», тогда как в её продолжение главное – манёвры, то есть «настроенческие» куски.
Читательская память устроена нелинейно и, уже внутри книги, начали всплывать отдельные элементы фабульной авантюры (чистоте воспоминания мешает то, что на «Двадцать лет спустя» накладывается ещё и «Десять лет спустя», которые я помню ещё более смутно, ну, то есть, пока не помню вообще), связанные с противостоянием Мордаунту, сыну Миледи.
Этот, 23-летний юноша, вынужденно оказавшийся воплощением мирового зла, лишённым каких бы то ни было оттенков, совершенно не отложился в анналах, что означает лишь одно – его служебная функция так и не перешла в качество автономного характера, оставшись стихией фабульной имманентности.
Мордаунту не повезло – он оказался «пленным духом» второго тома, запертым в трёх соснах «Двадцать лет спустя» и принесённым в жертву бесперебойной работе индустрии приключений: Дюма не нужно раскрашивать его в разноцветные тома как сына Атоса, становящегося хребтом финальной части трилогии, его поезд (точнее, фелука) дальше не плывёт.
Если «Три мушкетёра» складывались относительно стихийно, следуя органическому росту авантюрной интриги, то «Двадцать лет спустя» простраиваются с запасом (неслучайно мушкетёры постоянно спотыкаются об Рауля де Бражелона, сына Атоса, который мелькает здесь на периферии, дабы, вполне законно, стать главным героем в «Десять лет спустя») через чередование сцен «мира» со сценами «войны», имеющими различный «коленкор» (смысл, плотность, агрегатное состояние событийного и какого угодно решения) хронотопа.
Это образчик зрелого мастерства и точного расчёта: Дюма взрослеет вместе со своими героями и «твёрдость пера» его равна их «точности шпаги».
Д’Артаньян, собирающих друзей, заматеревших в одиночествах личных обстоятельств, уже давно не мальчик, а Атосу и вовсе 49.
«Эх, мой друг, не междоусобные войны разъединяют нас, а то, что мы больше не двадцатилетние юноши, то, что благородные порывы молодости, уступив место голосу холодного расчёта, внушениям честолюбия, воздействию эгоизма…» (1, 241)
Логично предположить, что трилогия о мушкетёрах напоминает картины, например, Джорджоне и Тициана, аллегорически собирающих разные возрасты человека в букет единых образов.
Юношеские порывы более невозможны, там, где раннее канали наскок и нахрап, ныне необходимы счёт и расчёт.
«Атос знал Д’Артаньяна, пожалуй, лучше, чем сам Д’Артаньян. Он знал, что достаточно заронить в изобретательный ум гасконца какую-нибудь мысль, подобно тому как достаточно бросить зерно в тучную и плодоносную почву. Поэтому он совершенно спокойно отнёсся к тому, что его друг пожал плечами и поехал рядом с ним, разговаривая о Рауле – разговор, который, как помнит читатель, при других обстоятельствах остался незаконченным…» (2, 496)
Неслучайно Атос постоянно любуется стремительным изяществом мысли Д’Артаньян и постоянно ждёт от него всё новых и новых придумок, «определённого плана» и это ожидание становится одним из базовых лейтмотивов, объясняющих доверие друзей к гасконцу, а также основу его благородства: ум – это же так аристократично.
Аристократизм - именно то, чему, кажется, всю жизнь Дюма, чьей матерью была "дочка чернокожей рабыни с острова Гаити", пытался соответствовать, точнее, присягать, разменивая ценности пока ещё правящего класса на золотые массовой популярности.
Вполне логично, кстати, что Д’Артаньян, самый умный из всех мушкетёров, оказывается самым бедным.
«Он думал об Арамисе, который ничем не лучше него, а между тем был когда-то любовником герцогини де Шеврез, игравшей в прошлое царствование ту же роль, что теперь играет мадам де Лонгвиль. И он спрашивал себя, почему есть на свете люди, которые добиваются всего, чего желают, будь то почести или любовь, между тем как другие застревают на полдороге своих надежд – по вине ли случая, или от незадачливости, или же из-за естественных помех, заложенных в них самой природой. Д’Артаньян вынужден был сознаться, что, несмотря на весь свой ум и всю свою ловкость, он был и всегда, вероятно, будет в числе последних…» (1, 69)
Французский вариант «Войны и мира» вполне мог бы назваться «Пером и шпагой» «Почести и любовь», если бы не старался бежать романтического пафоса, из которого состоят «Три мушкетёра» и который деконструируется постоянно нарастающими центробежными тенденциями своего нарратива для того, чтобы в «Десять лет спустя» оставить вторую скобку окончательно незакрытой: понятно же, что смерти главных героев разомкнут его вовне навсегда.

Три мушкетёра": https://paslen.livejournal.com/2481053.html
Иначе состояние персонажей не натянуть на глобус интриги.
Светочи передовой мысли (внуки Монтеня, практически) и проводники гуманизма, мушкетёры, и, в особенности, Д’Артаньян как самый передовой из них, отступают под натиском исторических обстоятельств, которыми Дюма и кроит интригу второй половины тома, полной битв, погонь, дуэлей, казней и преследований…
…тогда как первая половина «Двадцати лет спустя» намеренно замедленная: сюжет её о том, как Д’Артаньян, попав на глаза Мазарини, пытается собрать старых друзей, чтобы поставить своё ОПГ на службу режиму, оппозиционному не только и не столько королю (Людовик XIV ещё совсем малютка, а вот к Анне Австрийской, матери его, связавшейся с кардиналом, мы по традиции относимся с сочувствием, вспоминая, как она страдала двадцать лет назад в эпоху Ришелье), сколько парижанам и всему ограбленному французскому народу.
Да-да, народ, хотя и под предводительством герцогов и принцев крови, но возникает здесь в качестве субъекта истории.
Пусть пока этот субъект описывается в фоновом режиме (хотя одним из лидеров городского протеста оказывается Планше и его, в отличие от соратников, показывают крупно, с подробностями, хотя и более схематично, чем в «Трёх мушкетёрах»), но именно он позволяет перенести повествовательные акценты (точки зрения) с монологичных (компания мушкетеров как единый актор) на множественные.
При том, что, казалось бы, принципиально мир не меняется и лежит в одной и той же плоскости неразличения: он, разве что наглядно мельчает (богатыри, не вы), сводя всю разницу агрегатных состояний соседних исторических эпох к противопоставлению всемогущего громовержца Ришелье и не-орла Мазарини (этот важнейший лейтмотив второй части позволяет Дюма максимально экономить усилия, не вдаваясь в детализацию контекста).
Тем не менее, внезапно оказывается, что дух истории более не струится единым потоком, но норовит разделиться на составляющие: в нём теперь есть масса противоположно настроенных сил, которые рубятся друг с другом столь последовательно и жестко (а, главное, неотвратимо), что противоречия эти способны расколоть любое единство – даже семейно-мушкетёрское.
Д’Артаньян с Портосом, выступающие на стороне Мазарини оказываются врагами Атоса и Арамиса, топившими за королеву Генриетту и Карла I: эта множественность взглядов и есть равноценная замена передовых устремлений отдельных членов мушкетерского коллектива, так как она более массова и, таким образом, убедительна.
Д’Артаньяну можно регрессировать в Средневековье на фоне общей исторической логики, в которой более нет единства.

Разнонаправленность взглядов и устремлений требует чёткой карты, из-за чего роман долго не может начаться, постоянно утрясая, во-первых, новые обстоятельства и, таким образом, новые вводные, а, во-вторых, выстраивая на этих, новых обстоятельствах, интригу «старого образца» (авантюрную и приключенческую).
Д’Артаньян долго собирает друзей, судьба которых разбросала по разным провинциям и обстоятельствам (зато все они, не в пример гасконцу, существенно разбогатели) и эти промедления оттягивают интригу, подменяя её «процедурой», набором событий, которые необходимо проговорить и даже пережить, для того, чтоб запустить механизм интриги, которой, после того, как она заработала, буксовать уже нельзя.
Начало текста, таким образом, состоит из промежутков и динамичных, но провисаний, делающих «Двадцать лет спустя» немного буржуазно-психологическим: жанр его начинает мутировать в сторону условного Бальзака, покуда (не сразу) автор не запустит интригу, после чего скорости наррации начинают нарастать, вместе с постоянно возрастающим количеством условностей.
Однако, это происходит не сразу, обнажая рельеф нарративного дна – то, что Дюма необходимо проговорить в качестве вспомогательных материалов «бытового фона», с одной стороны, всегда повышено авторефлексивно (то есть, комментирует себя и «проговаривается»), с другой стороны, более механистично, нежели «сцены боёв», и, таким образом, является примером приближения к рамплиссажу «автоматического письма».
Интрига изгоняет ненужные элементы, сводя всю наррацию к сцеплению увлекательных обстоятельств, тогда как подступы к ней полны очаровательных сбоев и задержек, задающих голой схеме сюжета дополнительные атмосферные элементы.
Кстати, именно поэтому фабула «Двадцать лет спустя» оказалась мной совершенно забытой: первую часть любой способен пересказать «близко к тексту», тогда как в её продолжение главное – манёвры, то есть «настроенческие» куски.
Читательская память устроена нелинейно и, уже внутри книги, начали всплывать отдельные элементы фабульной авантюры (чистоте воспоминания мешает то, что на «Двадцать лет спустя» накладывается ещё и «Десять лет спустя», которые я помню ещё более смутно, ну, то есть, пока не помню вообще), связанные с противостоянием Мордаунту, сыну Миледи.
Этот, 23-летний юноша, вынужденно оказавшийся воплощением мирового зла, лишённым каких бы то ни было оттенков, совершенно не отложился в анналах, что означает лишь одно – его служебная функция так и не перешла в качество автономного характера, оставшись стихией фабульной имманентности.
Мордаунту не повезло – он оказался «пленным духом» второго тома, запертым в трёх соснах «Двадцать лет спустя» и принесённым в жертву бесперебойной работе индустрии приключений: Дюма не нужно раскрашивать его в разноцветные тома как сына Атоса, становящегося хребтом финальной части трилогии, его поезд (точнее, фелука) дальше не плывёт.
Если «Три мушкетёра» складывались относительно стихийно, следуя органическому росту авантюрной интриги, то «Двадцать лет спустя» простраиваются с запасом (неслучайно мушкетёры постоянно спотыкаются об Рауля де Бражелона, сына Атоса, который мелькает здесь на периферии, дабы, вполне законно, стать главным героем в «Десять лет спустя») через чередование сцен «мира» со сценами «войны», имеющими различный «коленкор» (смысл, плотность, агрегатное состояние событийного и какого угодно решения) хронотопа.
Это образчик зрелого мастерства и точного расчёта: Дюма взрослеет вместе со своими героями и «твёрдость пера» его равна их «точности шпаги».
Д’Артаньян, собирающих друзей, заматеревших в одиночествах личных обстоятельств, уже давно не мальчик, а Атосу и вовсе 49.
«Эх, мой друг, не междоусобные войны разъединяют нас, а то, что мы больше не двадцатилетние юноши, то, что благородные порывы молодости, уступив место голосу холодного расчёта, внушениям честолюбия, воздействию эгоизма…» (1, 241)
Логично предположить, что трилогия о мушкетёрах напоминает картины, например, Джорджоне и Тициана, аллегорически собирающих разные возрасты человека в букет единых образов.
Юношеские порывы более невозможны, там, где раннее канали наскок и нахрап, ныне необходимы счёт и расчёт.
«Атос знал Д’Артаньяна, пожалуй, лучше, чем сам Д’Артаньян. Он знал, что достаточно заронить в изобретательный ум гасконца какую-нибудь мысль, подобно тому как достаточно бросить зерно в тучную и плодоносную почву. Поэтому он совершенно спокойно отнёсся к тому, что его друг пожал плечами и поехал рядом с ним, разговаривая о Рауле – разговор, который, как помнит читатель, при других обстоятельствах остался незаконченным…» (2, 496)
Неслучайно Атос постоянно любуется стремительным изяществом мысли Д’Артаньян и постоянно ждёт от него всё новых и новых придумок, «определённого плана» и это ожидание становится одним из базовых лейтмотивов, объясняющих доверие друзей к гасконцу, а также основу его благородства: ум – это же так аристократично.
Аристократизм - именно то, чему, кажется, всю жизнь Дюма, чьей матерью была "дочка чернокожей рабыни с острова Гаити", пытался соответствовать, точнее, присягать, разменивая ценности пока ещё правящего класса на золотые массовой популярности.
Вполне логично, кстати, что Д’Артаньян, самый умный из всех мушкетёров, оказывается самым бедным.
«Он думал об Арамисе, который ничем не лучше него, а между тем был когда-то любовником герцогини де Шеврез, игравшей в прошлое царствование ту же роль, что теперь играет мадам де Лонгвиль. И он спрашивал себя, почему есть на свете люди, которые добиваются всего, чего желают, будь то почести или любовь, между тем как другие застревают на полдороге своих надежд – по вине ли случая, или от незадачливости, или же из-за естественных помех, заложенных в них самой природой. Д’Артаньян вынужден был сознаться, что, несмотря на весь свой ум и всю свою ловкость, он был и всегда, вероятно, будет в числе последних…» (1, 69)
Французский вариант «Войны и мира» вполне мог бы назваться «Пером и шпагой» «Почести и любовь», если бы не старался бежать романтического пафоса, из которого состоят «Три мушкетёра» и который деконструируется постоянно нарастающими центробежными тенденциями своего нарратива для того, чтобы в «Десять лет спустя» оставить вторую скобку окончательно незакрытой: понятно же, что смерти главных героев разомкнут его вовне навсегда.
Три мушкетёра": https://paslen.livejournal.com/2481053.html
Взято: Тут
1834