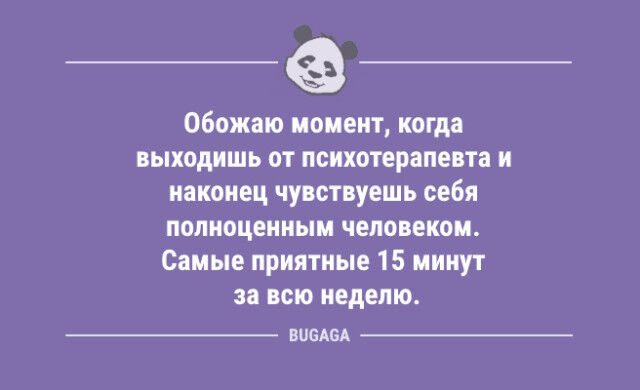Moramar
Много личностей или больше ни одной? Как распадается личность человека, больного деменцией ( 2 фото )
Когда человек заболевает тяжелым ментальным расстройством, его близкие порой уже не узнают в нем того, кого когда-то любили. Можно смириться с тем, что общаться как раньше уже не получится. Но даже в таких тяжелых случаях сознание больного редко уходит насовсем — например, личность человека с деменцией как бы расщепляется, и порой человек начинает вести себя как прежде, а его близкие снова приходят в замешательство: может быть, все-таки стоит обращаться к нему по-старому? Однако за этим вновь следует разочарование. Как мы видим, проблема выходит далеко за рамки одной лишь медицины, а заключается она в том, действительно ли каждому из нас присуще некое постоянное «я», которое лишь иногда на время «замутняется» внешними обстоятельствами. Даша Кипер — о том, что переживает человек, ухаживающий за больным деменцией, а также о том, что мы в свете этого можем узнать о собственном восприятии чужой личности.
После работы Элизабет часто ходила вместе со своим мужем Митчем в один и тот же ресторан в Нижнем Манхэттене. Обычно к ее приходу Митч уже сидел там, вертел в руках бокал и шутил с официантом. Прежде чем стать парой, Элизабет и Митч долгое время были друзьями, поэтому привыкли к непринужденному общению — постоянно подшучивали друг над другом и громко смеялись. Всякий, кто увидел бы их в этот момент, позавидовал бы им, но мало кто мог бы подумать, что Элизабет очень боялась этих посиделок.
Элизабет, высокая элегантная женщина, рассказывает мне о своих проблемах сдержанным, доверительным тоном, от которого ее история звучит еще более жутко. Как только трапеза заканчивалась, Митч бросал на нее настороженный взгляд и говорил:
«Теперь ты пойдешь к себе, а я пойду к себе».
Услышав эти слова, Элизабет кротко кивала, на минуту выходила в уборную, а затем выбегала на улицу. Она переходила дорогу и ждала, когда появится Митч. Убедившись, что он пошел в правильном направлении, она спешила домой, чтобы ждать его прихода.
Ее всегда поражало, каким нормальным казался Митч всё это время. Себя она едва узнала: нервная, измотанная женщина, которая, прячась за фонарными столбами, преследует непринужденно идущего мужчину. Ускоряясь в конце пути, она умудрялась вернуться в квартиру на несколько минут раньше мужа.
Придя домой, Митч всегда жизнерадостно приветствовал ее: «Привет, милая, как дела?» Он уже забыл об их свидании.
Когда Митч устраивался поудобнее, начинался настоящий кошмар. Он неожиданно отрывался от журнала или телевизора, пристально смотрел на Элизабет и просил ее уйти домой. Когда она пыталась убедить его, что она дома, он начинал смеяться.
Как она может быть дома, если в этом доме живет он? Хотя какой-то частью себя Митч по-прежнему чувствовал, что они знают друг друга, он забывал, что они женаты. Более того, присутствие Элизабет внушало ему угрозу.
Когда Митч впервые начал вести себя подобным образом, Элизабет сделала всё возможное, чтобы переубедить его. Она принесла вещи, которые они покупали вместе, и напомнила ему, откуда они взялись.
— Смотри, — говорила она. — Это наша свадебная фотография, видишь?
Митч невозмутимо ответил:
— Да? Ты просто повесила ее сюда.
— Послушай, я могу рассказать тебе обо всех вещах, что есть у нас в шкафу или где-либо еще в доме. Мы прожили вместе пятнадцать лет, помнишь?
— Значит, ты копалась в моих вещах. Убирайся, пока я не вызвал полицию.

Иногда по вечерам, когда у Элизабет от отчаяния и усталости начинал заплетаться язык, Митч приходил в ярость, хватал ее за шею, как бездомную кошку, и выталкивал за дверь. Тогда она проводила ночь на лестничной клетке.
Иногда Митч казался совершенно нормальным; в другое время он великодушно позволял ей остаться. Но приступы случались всё чаще, а сам он становился всё более непредсказуемым и с какого-то момента выгонял Элизабет в коридор почти каждый вечер.
Она стала брать с собой запасной ключ и открывала дверь сама, подождав, пока Митч заснет.
Митч страдал болезнью Альцгеймера. Я познакомился с Элизабет в 2016 году, когда был волонтером в организации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Нью-Йорке. С тех пор я поддерживаю с ней связь — мы продолжили общение даже после смерти Митча, случившейся в 2020 году в результате развития его болезни. Хотя к тому времени, когда мы с Элизабет начали обсуждать ее случай, Митчу уже поставили диагноз, она была удивлена тем, какой оборот приняло его состояние. Многие люди с деменцией время от времени страдают от бреда и галлюцинаций, но мало кто настолько настойчив в мысли, что его жена — самозванка. Однажды я спросил Элизабет, почему она пытается убедить Митча в обратном, если знает, что ни к чему хорошему это не приведет. Она усмехнулась.
«Дело в том, что у него на всё был ответ. Какие бы аргументы я ни приводила, он воспринимал это по-своему. Но я не могла оставить всё как есть».
Когда у пациентов с деменцией есть ответы на все вопросы, это очень усложняет жизнь тем, кто ухаживает за ними. Не поддаваться на подобные провокации очень трудно. Даже если предположения и обвинения больного бессмысленны, то, что он по-прежнему способен делать эти предположения, говорит о том, что его ум всё еще функционирует. Действительно, та часть разума, которая помогает больным выходить из затруднительного положения, находя «логичное» объяснение происходящему, остается нетронутой. Нейробиолог Майкл Газзанига называл эту способность «интерпретатором левого полушария», и именно на нее теперь опирался Митч. «Интерпретация» — это бессознательный процесс, который отвечает за рационализацию несоответствий и путаницы.
Когда у нас что-то не складывается, когда не оправдываются наши ожидания или резко меняется окружение, интерпретатор левого полушария мозга находит объяснение, которое помогает нам разобраться в происходящем.
Например, если больной испытывает беспокойство или страх из-за потери памяти или спутанности сознания, он наверняка укажет на какую-нибудь причину, почему он это переживает. Он может обвинить того, кто заботится о нем, что тот потерял кошелек, или настаивать на том, что окружающие люди вступилили в сговор против него. Когда больной чувствует внутренний разлад, то его подсознанию нужно найти этому внешнее объяснение — иначе можно провалиться в панику. Поэтому, когда Митчу предъявляли доказательства того, что Элизабет была его женой, но они противоречили его представлениям о ней, его интерпретатор левого полушария стремился скомпрометировать эти доказательства — например, подкинуть мысль, что они были подброшены в его квартиру.
Отчасти именно поэтому многие больные могут легко обосновать свои искаженные представления. Ум каждого из нас склонен моделировать правдоподобные объяснения всему, что мы видим. В исследовании 1962 года, которое сегодня наверняка сочли бы неэтичным, психологи Стэнли Шахтер и Джерри Сингер вводили испытуемым адреналин. Этот синтетический гормон сужает кровеносные сосуды, может вызывать беспокойство, дрожь и потливость. Некоторым испытуемым сообщили, что им ввели витамин, который не имеет побочных эффектов. Остальным сказали, что препарат может вызвать учащенное сердцебиение, дрожь и приливы крови. Те, кто знал о возможных побочных эффектах, сразу же приписали свой дискомфорт препарату. Те, кто не знал, почему они вдруг испытали возбуждение, винили свое окружение, предположив, что в их состоянии виноваты другие участники эксперимента.
Очевидно, нам нужно знать причину собственного беспокойства, ведь оставаться в неведении на этот счет просто невыгодно. Способность находить причины и следствия — еще одна функция интерпретатора левого полушария, и она проявляется множеством способов.
Мы можем объяснять свои чувства, несмотря на то, что часто не знаем их истинной причины. Также мы можем искажать факты, отстаивать ложные представления и верить во всё, что придает смысл происходящему вокруг нас.
Поэтому, когда больные начинают спорить, то их близким бывает трудно отличить мысли, порожденные естественной потребностью объяснять себе происходящее, от патологического бреда.

На одной из наших встреч Элизабет описала особенно тревожный случай, произошедший с Митчем. Однажды вечером Митч во время очередной ссоры, вместо того, чтобы вышвырнуть ее вон, внезапно расслабился и включил телевизор. Он переключал каналы, а затем, наткнувшись на начальные титры фильма «Доктор Живаго» и услышав музыку, остановился и потянулся к ее руке.
«Представь, — тихо сказала мне Элизабет, глядя мне в глаза, — мы держались за руки».
Возвращение Митча, которого она когда-то полюбила, — вот что окончательно выбило ее из колеи. Оказалось, в одном теле с человеком, который ее не узнавал, живет мужчина, который может погладить ее по волосам и спросить, как она его терпит. Оказалось, что тот, кто каждый вечер вышвыривал ее на лестничную клетку, был в то же время человеком, который снял видео к их годовщине и признался, каким потерянным он чувствовал бы себя без нее.
Если бы этого Митча больше не существовало, если бы Элизабет приходилось иметь дело только с окончательно спятившим Митчем, ее собственному интерпретатору левого полушария было бы легче всё это объяснить. Вместо этого ее мозг был измучен непоследовательностью и неуверенностью в завтрашнем дне.
Когда мы думаем о болезни Альцгеймера, мы обычно думаем о ней как о стирании человеческого «я». Но в большинстве случаев человеческое «я» распадается на множество других «я»; некоторых из них мы узнаем, других — нет. На самом деле, наше «я», или, точнее, наша «саморепрезентация», как выразилась философ Патриция Черчленд, не находится в какой-то определенной части головы. Оно распределено по всему мозгу — и когда наш близкий человек заболевает болезнью Альцгеймера, это осложняет ситуацию. Та часть личности человека, которую мы хорошо знаем, то исчезает, то появляется вновь, и поэтому, хотя его «я» уже фрагментировано и постепенно стирается, мы не понимаем этого. Довольно часто болезнь Альцгеймера вообще не столько стирает человеческое «я», сколько разбивает его на части.
Для Элизабет Митч по-прежнему оставался Митчем. Личность любимого человека не исчезает для нас, даже когда он меняется. Одной из причин этого может быть наша бессознательная вера в то, что психолог Пол Блум называет «сущностным я». На ранних стадиях нашего развития мы приписываем другим людям некое постоянное «глубинное „я“». И хотя с возрастом наше понимание людей становится более сложным, вера, что есть истинное «я», а есть его ненастоящие формы, сохраняется.
Когда философы, исследующие то, как мы определяем «я», в ходе эксперимента попросили участников подумать о том, что происходит, когда гипотетическая пересадка мозга влияет на когнитивные способности, личность и память субъекта, большинство участников продолжили верить, что «истинное „я“» субъекта осталось нетронутым. Но если бы субъект, о котором шла речь, начал вести себя общественно неприемлемым образом — когда у него проявлялась бы клептомания, склонность к совершению преступлений, педофилия и т. д. — участники бы решили, что его «истинное „я“» радикально изменилось.
Блум отмечает, что мы с большей вероятностью ассоциируем «хорошие» качества в людях с их истинной сущностью («хорошие», конечно, в соответствии с нашими собственными ценностями). В этом смысле «истинное „я“» другого человека является продолжением того, что дорого нам самим.
Таким образом, если сущностное «я» интуитивно отождествляется с моральным «я», то когнитивные проблемы, сопровождающие деменцию, могут казаться второстепенными — до тех пор, пока изменения в поведении больного не окажутся «настолько радикальными», что мы перестанем видеть в нем близкого человека.
Причина, по которой Элизабет продолжала спорить с Митчем, заключалась в том, что она взывала к «настоящему» Митчу, «хорошему» Митчу, тому, кто «всё еще там», тому, кто в прошлом пришел бы ей на помощь.
Для того, кто ухаживает за больным, идея «истинного „я“» может оказаться палкой о двух концах. С одной стороны, она побуждает нас спорить с больными близкими в надежде пробиться к их «истинному „я“», — а это путь к разочарованию. С другой стороны, если мы начинаем сомневаться в существовании «истинного „я“», то зачем нам заботиться об этом человеке? Ради кого мы страдаем и приносим жертвы?
По мере того как когнитивные способности Митча ослабевали, росло и его замешательство. Он стал спокойнее — и Элизабет тоже. Несмотря на это, иногда он по-прежнему мог расстроиться по той или иной причине. Однажды, когда Митч разрисовывал книжку-раскраску — занятие, которое он раньше счел бы ниже своего достоинства, — он поднял глаза и сказал:
— Я думаю, со мной что-то не так.
— Ну, дорогой, — мягко ответила Элизабет, — у тебя болезнь Альцгеймера, и это нормально, я здесь ради тебя.
Митч нахмурил брови.
— Нет, дело не в этом. У меня нет этой болезни. Зачем ты вообще это сказала?
Рассказывая мне об этом, Элизабет была собой недовольна:
«Я чувствовала себя ужасно, расстраивая его».
Но ее реакция была вполне естественной. Когда Митч почувствовал, что что-то не так, ей на мгновение показалось, что она увидела прежнего Митча, настоящего Митча. Поэтому она доверилась ему, как делала это в прошлом, надеясь, что он поймет.
После работы Элизабет часто ходила вместе со своим мужем Митчем в один и тот же ресторан в Нижнем Манхэттене. Обычно к ее приходу Митч уже сидел там, вертел в руках бокал и шутил с официантом. Прежде чем стать парой, Элизабет и Митч долгое время были друзьями, поэтому привыкли к непринужденному общению — постоянно подшучивали друг над другом и громко смеялись. Всякий, кто увидел бы их в этот момент, позавидовал бы им, но мало кто мог бы подумать, что Элизабет очень боялась этих посиделок.
Элизабет, высокая элегантная женщина, рассказывает мне о своих проблемах сдержанным, доверительным тоном, от которого ее история звучит еще более жутко. Как только трапеза заканчивалась, Митч бросал на нее настороженный взгляд и говорил:
«Теперь ты пойдешь к себе, а я пойду к себе».
Услышав эти слова, Элизабет кротко кивала, на минуту выходила в уборную, а затем выбегала на улицу. Она переходила дорогу и ждала, когда появится Митч. Убедившись, что он пошел в правильном направлении, она спешила домой, чтобы ждать его прихода.
Ее всегда поражало, каким нормальным казался Митч всё это время. Себя она едва узнала: нервная, измотанная женщина, которая, прячась за фонарными столбами, преследует непринужденно идущего мужчину. Ускоряясь в конце пути, она умудрялась вернуться в квартиру на несколько минут раньше мужа.
Придя домой, Митч всегда жизнерадостно приветствовал ее: «Привет, милая, как дела?» Он уже забыл об их свидании.
Когда Митч устраивался поудобнее, начинался настоящий кошмар. Он неожиданно отрывался от журнала или телевизора, пристально смотрел на Элизабет и просил ее уйти домой. Когда она пыталась убедить его, что она дома, он начинал смеяться.
Как она может быть дома, если в этом доме живет он? Хотя какой-то частью себя Митч по-прежнему чувствовал, что они знают друг друга, он забывал, что они женаты. Более того, присутствие Элизабет внушало ему угрозу.
Когда Митч впервые начал вести себя подобным образом, Элизабет сделала всё возможное, чтобы переубедить его. Она принесла вещи, которые они покупали вместе, и напомнила ему, откуда они взялись.
— Смотри, — говорила она. — Это наша свадебная фотография, видишь?
Митч невозмутимо ответил:
— Да? Ты просто повесила ее сюда.
— Послушай, я могу рассказать тебе обо всех вещах, что есть у нас в шкафу или где-либо еще в доме. Мы прожили вместе пятнадцать лет, помнишь?
— Значит, ты копалась в моих вещах. Убирайся, пока я не вызвал полицию.

Иногда по вечерам, когда у Элизабет от отчаяния и усталости начинал заплетаться язык, Митч приходил в ярость, хватал ее за шею, как бездомную кошку, и выталкивал за дверь. Тогда она проводила ночь на лестничной клетке.
Иногда Митч казался совершенно нормальным; в другое время он великодушно позволял ей остаться. Но приступы случались всё чаще, а сам он становился всё более непредсказуемым и с какого-то момента выгонял Элизабет в коридор почти каждый вечер.
Она стала брать с собой запасной ключ и открывала дверь сама, подождав, пока Митч заснет.
Митч страдал болезнью Альцгеймера. Я познакомился с Элизабет в 2016 году, когда был волонтером в организации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Нью-Йорке. С тех пор я поддерживаю с ней связь — мы продолжили общение даже после смерти Митча, случившейся в 2020 году в результате развития его болезни. Хотя к тому времени, когда мы с Элизабет начали обсуждать ее случай, Митчу уже поставили диагноз, она была удивлена тем, какой оборот приняло его состояние. Многие люди с деменцией время от времени страдают от бреда и галлюцинаций, но мало кто настолько настойчив в мысли, что его жена — самозванка. Однажды я спросил Элизабет, почему она пытается убедить Митча в обратном, если знает, что ни к чему хорошему это не приведет. Она усмехнулась.
«Дело в том, что у него на всё был ответ. Какие бы аргументы я ни приводила, он воспринимал это по-своему. Но я не могла оставить всё как есть».
Когда у пациентов с деменцией есть ответы на все вопросы, это очень усложняет жизнь тем, кто ухаживает за ними. Не поддаваться на подобные провокации очень трудно. Даже если предположения и обвинения больного бессмысленны, то, что он по-прежнему способен делать эти предположения, говорит о том, что его ум всё еще функционирует. Действительно, та часть разума, которая помогает больным выходить из затруднительного положения, находя «логичное» объяснение происходящему, остается нетронутой. Нейробиолог Майкл Газзанига называл эту способность «интерпретатором левого полушария», и именно на нее теперь опирался Митч. «Интерпретация» — это бессознательный процесс, который отвечает за рационализацию несоответствий и путаницы.
Когда у нас что-то не складывается, когда не оправдываются наши ожидания или резко меняется окружение, интерпретатор левого полушария мозга находит объяснение, которое помогает нам разобраться в происходящем.
Например, если больной испытывает беспокойство или страх из-за потери памяти или спутанности сознания, он наверняка укажет на какую-нибудь причину, почему он это переживает. Он может обвинить того, кто заботится о нем, что тот потерял кошелек, или настаивать на том, что окружающие люди вступилили в сговор против него. Когда больной чувствует внутренний разлад, то его подсознанию нужно найти этому внешнее объяснение — иначе можно провалиться в панику. Поэтому, когда Митчу предъявляли доказательства того, что Элизабет была его женой, но они противоречили его представлениям о ней, его интерпретатор левого полушария стремился скомпрометировать эти доказательства — например, подкинуть мысль, что они были подброшены в его квартиру.
Отчасти именно поэтому многие больные могут легко обосновать свои искаженные представления. Ум каждого из нас склонен моделировать правдоподобные объяснения всему, что мы видим. В исследовании 1962 года, которое сегодня наверняка сочли бы неэтичным, психологи Стэнли Шахтер и Джерри Сингер вводили испытуемым адреналин. Этот синтетический гормон сужает кровеносные сосуды, может вызывать беспокойство, дрожь и потливость. Некоторым испытуемым сообщили, что им ввели витамин, который не имеет побочных эффектов. Остальным сказали, что препарат может вызвать учащенное сердцебиение, дрожь и приливы крови. Те, кто знал о возможных побочных эффектах, сразу же приписали свой дискомфорт препарату. Те, кто не знал, почему они вдруг испытали возбуждение, винили свое окружение, предположив, что в их состоянии виноваты другие участники эксперимента.
Очевидно, нам нужно знать причину собственного беспокойства, ведь оставаться в неведении на этот счет просто невыгодно. Способность находить причины и следствия — еще одна функция интерпретатора левого полушария, и она проявляется множеством способов.
Мы можем объяснять свои чувства, несмотря на то, что часто не знаем их истинной причины. Также мы можем искажать факты, отстаивать ложные представления и верить во всё, что придает смысл происходящему вокруг нас.
Поэтому, когда больные начинают спорить, то их близким бывает трудно отличить мысли, порожденные естественной потребностью объяснять себе происходящее, от патологического бреда.

На одной из наших встреч Элизабет описала особенно тревожный случай, произошедший с Митчем. Однажды вечером Митч во время очередной ссоры, вместо того, чтобы вышвырнуть ее вон, внезапно расслабился и включил телевизор. Он переключал каналы, а затем, наткнувшись на начальные титры фильма «Доктор Живаго» и услышав музыку, остановился и потянулся к ее руке.
«Представь, — тихо сказала мне Элизабет, глядя мне в глаза, — мы держались за руки».
Возвращение Митча, которого она когда-то полюбила, — вот что окончательно выбило ее из колеи. Оказалось, в одном теле с человеком, который ее не узнавал, живет мужчина, который может погладить ее по волосам и спросить, как она его терпит. Оказалось, что тот, кто каждый вечер вышвыривал ее на лестничную клетку, был в то же время человеком, который снял видео к их годовщине и признался, каким потерянным он чувствовал бы себя без нее.
Если бы этого Митча больше не существовало, если бы Элизабет приходилось иметь дело только с окончательно спятившим Митчем, ее собственному интерпретатору левого полушария было бы легче всё это объяснить. Вместо этого ее мозг был измучен непоследовательностью и неуверенностью в завтрашнем дне.
Когда мы думаем о болезни Альцгеймера, мы обычно думаем о ней как о стирании человеческого «я». Но в большинстве случаев человеческое «я» распадается на множество других «я»; некоторых из них мы узнаем, других — нет. На самом деле, наше «я», или, точнее, наша «саморепрезентация», как выразилась философ Патриция Черчленд, не находится в какой-то определенной части головы. Оно распределено по всему мозгу — и когда наш близкий человек заболевает болезнью Альцгеймера, это осложняет ситуацию. Та часть личности человека, которую мы хорошо знаем, то исчезает, то появляется вновь, и поэтому, хотя его «я» уже фрагментировано и постепенно стирается, мы не понимаем этого. Довольно часто болезнь Альцгеймера вообще не столько стирает человеческое «я», сколько разбивает его на части.
Для Элизабет Митч по-прежнему оставался Митчем. Личность любимого человека не исчезает для нас, даже когда он меняется. Одной из причин этого может быть наша бессознательная вера в то, что психолог Пол Блум называет «сущностным я». На ранних стадиях нашего развития мы приписываем другим людям некое постоянное «глубинное „я“». И хотя с возрастом наше понимание людей становится более сложным, вера, что есть истинное «я», а есть его ненастоящие формы, сохраняется.
Когда философы, исследующие то, как мы определяем «я», в ходе эксперимента попросили участников подумать о том, что происходит, когда гипотетическая пересадка мозга влияет на когнитивные способности, личность и память субъекта, большинство участников продолжили верить, что «истинное „я“» субъекта осталось нетронутым. Но если бы субъект, о котором шла речь, начал вести себя общественно неприемлемым образом — когда у него проявлялась бы клептомания, склонность к совершению преступлений, педофилия и т. д. — участники бы решили, что его «истинное „я“» радикально изменилось.
Блум отмечает, что мы с большей вероятностью ассоциируем «хорошие» качества в людях с их истинной сущностью («хорошие», конечно, в соответствии с нашими собственными ценностями). В этом смысле «истинное „я“» другого человека является продолжением того, что дорого нам самим.
Таким образом, если сущностное «я» интуитивно отождествляется с моральным «я», то когнитивные проблемы, сопровождающие деменцию, могут казаться второстепенными — до тех пор, пока изменения в поведении больного не окажутся «настолько радикальными», что мы перестанем видеть в нем близкого человека.
Причина, по которой Элизабет продолжала спорить с Митчем, заключалась в том, что она взывала к «настоящему» Митчу, «хорошему» Митчу, тому, кто «всё еще там», тому, кто в прошлом пришел бы ей на помощь.
Для того, кто ухаживает за больным, идея «истинного „я“» может оказаться палкой о двух концах. С одной стороны, она побуждает нас спорить с больными близкими в надежде пробиться к их «истинному „я“», — а это путь к разочарованию. С другой стороны, если мы начинаем сомневаться в существовании «истинного „я“», то зачем нам заботиться об этом человеке? Ради кого мы страдаем и приносим жертвы?
По мере того как когнитивные способности Митча ослабевали, росло и его замешательство. Он стал спокойнее — и Элизабет тоже. Несмотря на это, иногда он по-прежнему мог расстроиться по той или иной причине. Однажды, когда Митч разрисовывал книжку-раскраску — занятие, которое он раньше счел бы ниже своего достоинства, — он поднял глаза и сказал:
— Я думаю, со мной что-то не так.
— Ну, дорогой, — мягко ответила Элизабет, — у тебя болезнь Альцгеймера, и это нормально, я здесь ради тебя.
Митч нахмурил брови.
— Нет, дело не в этом. У меня нет этой болезни. Зачем ты вообще это сказала?
Рассказывая мне об этом, Элизабет была собой недовольна:
«Я чувствовала себя ужасно, расстраивая его».
Но ее реакция была вполне естественной. Когда Митч почувствовал, что что-то не так, ей на мгновение показалось, что она увидела прежнего Митча, настоящего Митча. Поэтому она доверилась ему, как делала это в прошлом, надеясь, что он поймет.
Взято: Тут
297