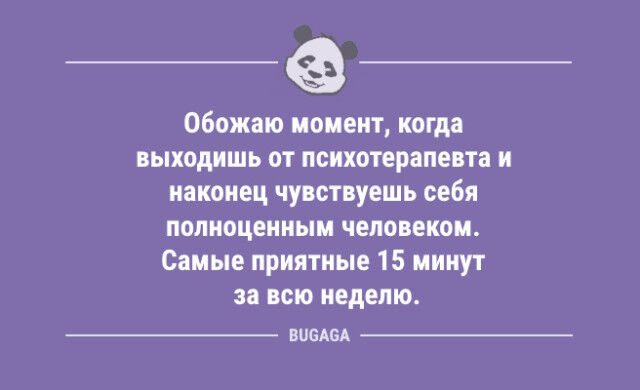angik
«Твой внешний вид – защитная реакция»: Бывшая заключенная о том, как сохранить себя в тюрьме ( 3 фото )
О женских колониях и женщинах, которые находятся в заключении, говорят гораздо меньше, чем о мужчинах. Мы поговорили с Татьяной, которая провела в СИЗО и колонии в общей сложности семь лет, о том, как сохранить себя в закрытом пространстве — и почему в тюрьме особую роль играют косметика, одежда и косметические процедуры.
Семь лет
Нас было восемь девочек, мы занимались туризмом, работали в разных компаниях. Потом, как я понимаю, был какой-то передел собственности — а может, кто-то с кем-то не поделился. Придумали и возбудили уголовное дело по факту того, что фирма не выполнила условия договора с клиентом. На самом деле это гражданско-правовые отношения — но кому-то было нужно уголовное дело. Его возбудили против основателя всей большой компании. Он каким-то образом откупился, но взамен отдал нас — восемь женщин и одного мужчину. Что самое примечательное, конкретно против нас даже не возбудили уголовное дело, но тем не менее, мы получили срок.
Мы с первого дня следствия знали фамилию судьи и даже примерно понимали, сколько нам дадут. Но мы не верили следователям, мы верили в наш справедливый суд. Совершенно напрасно — был фарс. Два года, пока шли следствие и суд, мы отсидели в изоляторе, потом ещё два года на зоне, а потом нас опять этапировали в Москву, где предъявили ещё одно обвинение — по тем же делам. Но нам попался судья, который начал копаться в деле, и поэтому второй приговор был практически полностью оправдательным, с правом на реабилитацию. Тем не менее, пока все это происходило, прошло семь с лишним лет — пять из них я провела в СИЗО.
По первому приговору у меня была 4 часть 159 статьи УК РФ — мошенничество, совершённое группой лиц, в особо крупном размере. А по второму обвинению у нас помимо 159 статьи почему-то образовалась ещё 210 статья УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)». Естественно, по ней мы были полностью оправданы с правом на реабилитацию.
Девочки подавали в Страсбург (Европейский суд по правам человека — Прим. ред.), я дошла только до Верховного суда. Получила компенсацию — 120 000 рублей за семь лет. Пока шли первое следствие и первый суд, поддерживали родственники. А ко второму возможностей уже не было — не было денег, за четыре года всё уже было потрачено и продано. Ко второму суду мы были уже опытными, начитавшимися. На втором суде мы защищали себя сами и добились оправдания.
Правила
У женщин в заключении нет таких понятий, как у мужчин. Понятия предполагают строгое соблюдение и, может, даже дисциплинируют. У женщин такого нет, но есть некоторые негласные правила. В СИЗО первоходы — те, кто попадают туда в первый раз, — существуют отдельно от краток — тех, кто находится там второй раз и более. У краток по сути уже нет никаких правил, у первоходов они ещё есть. Например, спальные места: кто дольше там находится, у тех они более комфортные — подальше от двери и санузла, поближе к стенке. Все кровати двухэтажные, второй этаж — это так называемая «пальма». На нём в основном либо молодые, либо те, кто только что попали, как я их называла, «зайцы свежепойманные».
Ещё в изоляторе есть старшая в камере. Это выборная должность, но, как правило, старшая — та, кто устраивает оперативника. С неё будут спрашивать за всю камеру, она несёт ответственность — оперативник не будет ругать сорок человек в камере, а вызовет её и накажет. Оперативнику нужен человек, который умеет договориться с камерой и навести порядок. Наказывают строго. В мою бытность за непослушание одной девочки всю камеру — сорок два человека — со всеми вещами (с матрасами, сумками) заставили сделать три круга по изолятору, с первого по третий этаж. Поэтому нужна старшая, которая сможет держать дисциплину.
На зоне всё немного по-другому. Все женские зоны — так называемые «красные»: везде командуют бригадиры, командиры, председатели советов отрядов. Они, как правило сотрудничают с администрацией — иначе практически невозможно занять должность. Командуют они так: могут побить за плохую работу, могут поругать и так далее. Других порядков на зоне нет: ты просто должна хорошо работать и выполнять план. В мою бытность, например, был стопроцентный выход на работу. То есть если в отряде сто двадцать три человека — одна дневальная, а сто двадцать два выходят на работу на фабрику.
Я была в Можайской колонии, она всегда считалась образцово-показательной. В колонии было 1600 человек. Всего восемь рабочих отрядов: четыре работают в одну смену, четыре в другую. Еще есть один отдельный отряд — те, кто работают в медсанчасти, комнате свиданий, штабе, и пенсионеры. Им нельзя особенно общаться с остальной зоной, они живут в отдельном отряде, у них другой распорядок дня.
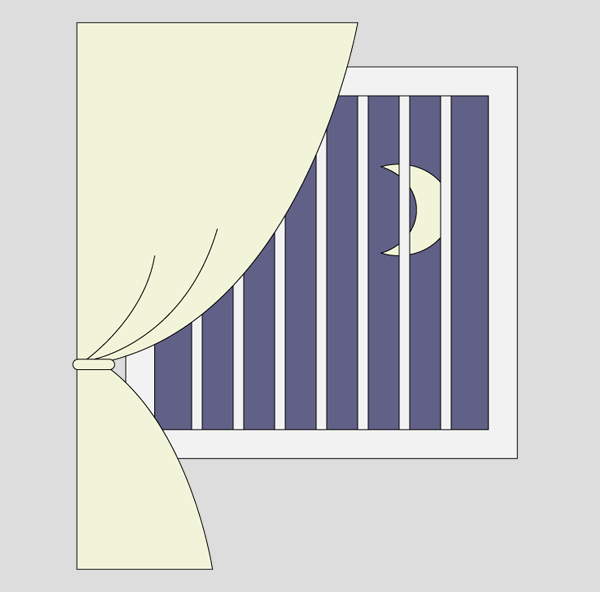
Помимо работы обязательно чем-то заниматься. Я, когда только приехала, сказала, что если я обязана работать, то подчинюсь, но больше от меня ничего не требуйте. Через некоторое время пришла на комиссию для перевода на облегчённые условия содержания. Начальник отряда дала мне характеристику: «Прибыла к нам, умная, грамотная, образованная. Мы думали, будет нам надежным помощником, а она заняла позицию наблюдателя, делать ничего не хочет». Мне сказали: ничего не делать и получить облегчённые условия содержания — так не бывает.
Я решила, что очень хочу домой, меня там ждут ребёнок и мама. Тогда я взяла на себя секцию досуга. В него входит всё, чем занимаются после работы — от отрядной стенгазеты до концертов. На Можайке очень много всего: в квартал бывает три концерта, два спектакля, три литературно-музыкальные композиции. Надо написать сценарии, распределить роли, уговорить девочек что-нибудь сделать. Но мне это было интересно. На это уходит время, у тебя есть хоть какая-то возможность самореализации, повод узнать что-то новое и заодно о чем-то рассказать. Например, оказалось, что многие девочки не знают, как правильно держать нож и вилку — я сделала литературно-музыкальную композицию на тему этики и этикета. Или, например, о Хемингуэе — многие вообще не знали, кто это. Считаю, что какую-то пользу я принесла.
В остальном распорядок дня, как в пионерском лагере: подъём, завтрак, построение. В изоляторе до обеда занимаются ничем — кто-то ждет адвоката, кто-то следственных действий, но как правило, они происходят очень редко. Потом обед и до ужина опять занимаешься ничем. После ужина можно расслабиться — уже никто не придёт — и девочки занимаются своими делами. В течение дня, например, вяжут — крючки выпиливают из зубных щеток пилкой для ногтей или делают из апельсиновых палочек для маникюра.
На зоне, конечно, всё по-другому. Там тебе не дадут скучать, у тебя не будет времени — и это хорошо, потому что оно хотя бы быстрее проходит. Время, которое остается между работой и сном, тоже нужно чем-то занять — можно убирать территорию, заниматься в какой-то секции, но ни в коем случае не праздно гулять.
Встречают по одёжке
Все девочки стараются за собой следить. Там всё это имеет другую цену: это не столько желание быть красивой, сколько защитная реакция. Женщина старается сохранить себя, быть в форме. Кто-то хочет освободиться и быть для этого красивой, а для кого-то причина — выезды в суд. Любой выход — это событие. Женщина должна быть с гордо поднятой головой, показать всему миру, что она сильная.
Весь внешний вид женщины — защитная реакция. Если есть возможность подкрасить глаза, она обязательно это сделает, приведёт в порядок волосы, подпилит ноготочки, сделает эпиляцию. Понятно, что она не может позволить себе одежду, которую хочет. Но она обязательно выберет из всех вещей, что у неё есть — спортивный костюм, джинсы, брюки — чистое. Гладить негде, но это раскладывают под матрасом, простыней, чтобы на этом поспать и оно прогладилось.
Пространство замкнутое, и возможностей мало. Соответственно, девочки начинают фантазировать. Например, меня там научили делать скраб, которым я пользуюсь до сих пор: спитой молотый кофе, соль, мед, жидкое мыло, сок лимона. Или укладка волос: лаки запрещены, но девочки используют для укладки, например, ополаскиватель для волос. Если некому передать бигуди, девочки делают папильотки — тряпочку режут на полоски и на них накручивают волосы, или в серединку этой тряпочки наматывают рулончик бумаги, чтобы было похоже на бигуди. Делают маски — из той же овсянки, благо каши разрешены. Девочки, конечно, стараются держать себя в форме.
У меня есть диплом парикмахера — я получила его давным-давно, сидя в декретном отпуске. Сделала это для себя — стригла родных и близких. А когда мы оказались в заключении, использовала. Раз в месяц, в неделю (как у воспитателя будет настроение), можно было попросить принести парикмахерские ножницы. Это самые простые, дешевые ножницы, которые сто пятьдесят раз роняли, которыми резали бумагу — они уже практически негодны. Но тем не менее, мы старались хоть как-то ими стричь — не у всех есть возможность оплатить тюремного парикмахера. Ножницы, как и нож, выдают под расписку.

Ещё стриглись лезвием. Лезвие выламывают из станка — конечно, это нарушение, и если с ним застукают, можно получить выговор, который повлияет на УДО. Но я это делала. Хочется, чтобы женщина приехала в суд, и на нее смотрели, как на человека.
Реакция на стрижки всегда положительная. Это изменение, которое подсознательно даёт надежду на масштабные перемены. Всё, что здесь нам кажется мелочью, там очень важно.
Администрация реагирует на прически совершенно спокойно, никаких проблем с этим нет. Девочки плетут косички, делают завитушки. Иногда специально делают смешно — контролеры улыбаются. Иногда это наоборот вызов: на голове сооружен дом, чтобы привлечь внимание, чтобы показать — вам не нравится, а я так буду делать. Я, например, никогда не делала африканские косички — и мне до смерти их захотелось. Благо, у меня много волос, они длинные — я попросила девочку мне их заплести. Мы делали это целый день, восемь часов — получилось 126 штук. Я две недели с ними ходила — кто мне запретит?
В тюрьме, как нигде, действует правило «встречают по одёжке». У меня были вещи, которые потом запретили, но они остались от первых передач — сапожки на каблучке, пальто, палантин. Я выглядела так, будто меня вчера арестовали, а не я сижу тут пять лет. И с тобой совершенно по-другому разговаривают, по-другому смотрят. Когда девочка приходит из СИЗО в шлёпанцах, потому что ей больше нечего надеть, спортивном костюме и чужой растянутой майке, её будут пинать, ей будут грубить. Почему-то всё так действует: если я хорошо выгляжу и на мне более-менее дорогие вещи, значит, я не бесхозная, за моей спиной кто-то есть — родственники, адвокат. А если нет — можно и попинать, и нагрубить.
Уход за собой
Можно пользоваться бритвой. В изоляторе, например, разрешены одноразовые станки. На зоне все одноразовые станки находятся в кладовке, которая называется каптёркой. Их каптёрщица выдает под расписку, когда ты идёшь в баню, в банный день — он один раз в неделю. Эпиляцию, как правило, все делают ниткой — находятся умелицы. Я, честно сказать, так и не научилась. Как правило, девочки из Средней Азии или Кавказа, где это распространено, всех обучают этому.
Никаких спортивных залов на зоне, конечно, нет. В СИЗО они есть, но за это должны заплатить родственники. Если возможности нет, девочки занимаются зарядкой в камерах. Есть так называемая «шконарная» гимнастика, от слова «шконка» — кровать. Её придумали давным-давно, передают друг другу — то, что можно сделать, не отходя от кровати: наклоны, планки, махи. Гантели делают из бутылок с водой, или засыпают пластиковые бутылки солью. На зоне делать гимнастику некогда — у меня, во всяком случае, было так.
Косметику тоже разрешают, её передают. Но есть ограничения. Если это кремы, они должны быть в пластмассовой упаковке, желательно прозрачной. Например, я пользовалась кремом, который тогда продавался только в металлических тюбиках. Моя мама покупала баночки для анализов и выдавливала его туда, чтобы пропустили. Шампуни, бальзамы — всё должно быть в прозрачных бутылочках. Декоративная косметика тоже разрешена, в изоляторе с этим проблем не было — но всё также должно быть в пластмассовой упаковке. Можно даже пилки для ногтей, но тоже не металлические, мягкие. На зоне проблем тоже нет — там даже больше, наверное, разрешено. Не было проблем даже с шампунями в непрозрачной упаковке — в них всё равно тыкают спицей, пробалтывают, смотрят. Пилки металлические, правда, и там нельзя — они относятся к колюще-режущим.
Лак для ногтей тоже нельзя. Помню, что меня отправили в тюремную больницу, на «Матросской тишине». Пока я там была, я попросила маму прислать мне лак для ногтей. Так как там женщин мало, и в комнате передач не очень понимают, что можно, а что нет, его пропустили. Я приехала из больницы с накрашенными ногтями, вся такая невозможно красивая. Конечно, там нет такой необходимости красить ногти. Но это был вызов — я ходила так, чтобы все контролёры видели, что у меня накрашены ногти. Сделать они ничего не могли, потому что я не здесь их накрасила, я такая приехала. Ты не можешь ничего предпринять, ты можешь только своим видом, выдержкой, стремлением, упорством показать, что ты человек, что ты не позволишь вытирать о себя ноги.
Вторая форма
С одеждой на зоне ситуация дурацкая. Выдают форму — под неё можно надеть футболку, колготки, зимой свитер (желательно тёмный, неяркий), они разрешены. Ты должна всегда быть в форме — в отряде, на фабрике, на улице, на построении. Как её стирать, непонятно — другую не дали. Соответственно, девочки начинают придумывать — либо выменивают у тех, кто освобождается, либо дополнительно шьют на фабрике. Мне сшили вторую форму за блок сигарет. Она была красивая, даже не соответствовала стандартам, но её не запрещали. Все знали, что это ворованная с фабрики ткань, украдкой сшитая на фабрике. Но главное, чтобы ты была аккуратная и чистая.
В белье нет ограничений — не то что слипы можно, а стринги нельзя. Девочкам, конечно, хочется красивое бельё — если есть такая возможность, родственники привозят. Обувь выдают, но такую, в которой, мне кажется, невозможно ходить. На осень это ужасные ботинки-бутсы, на зиму — войлочные сапоги «прощай, молодость». Летом, когда я пошла получать летние тапки, на коробках было написано «последний путь» — это не шутка. Они на бумажной подошве — не то чешки, не то какие-то непонятные тапки.
Ещё обувь можно получить, написав заявление на имя начальника учреждения, если у родственников есть возможность её привезти. У неё не должно быть каблука, в лучшем случае может быть невысокая танкетка. Обувь обязательно должна быть полностью закрытой. Если заявление не подпишут и не разрешат, будешь ходить в том, что выдали.

Гигиена
Никто в администрации не думает, что прокладки важны. Поэтому женщины заботятся об этом как могут. Кто-то на зоне на последние заработанные на фабрике копейки покупает себе только мыло и прокладки — это необходимо, без этого не обойдёшься.
Понятно, что прокладок нет у тех, кто не получает поддержки с воли, у кого нет передач. Соответственно, девочки зарабатывают. Допустим, кто-то вяжет, и это оплачивается — денег нет, но платят сигаретами, кофе, чаем или теми же прокладками. Кто-то покупает дежурства. Я тоже продавала дежурство — не потому что у меня много лишних сигарет и продуктов, а потому что когда я занялась досугом и мероприятиями, я физически не успевала заниматься уборкой.
Одно время начали выдавать наборы, в которые входила маленькая зубная паста (она напоминает гостиничную), самая простая зубная щётка, самые дешёвые отечественные прокладки и рулончик туалетной бумаги — той, которая похожа на наждачную. Это было хотя бы что-то, но потом их опять прекратили выдавать.
Чаще всего девочки делятся друг с другом. Например, я долго была старшей в камере в СИЗО. Я делала коробку — «общак». У кого-то зубная паста ещё не закончилась, а передали ещё две, у кого-то есть зубные щётки, что-то из белья. Когда новенькие девочки приходили, мы им из этой коробки выдавали комплект — пока к ним придут, пока принесут вещи. А принесут тебе — ты тоже положишь в коробку. А иногда девочки приходили издалека, из других городов — они не могли постирать бельё, потому что им просто не во что было переодеться.
Если в коробке не хватало, просили воспитателя принести гуманитарную помощь. Допустим, девочку арестовали летом, в шортах, в майке — а времена года быстро меняются. Если кто-то из девочек уехал на этап, оставив вещи — тоже отдавали новеньким.
Личное пространство
Первое время ты не знаешь, что происходит, как реагировать. У многих, я замечала, такая защитная реакция — стать «улиткой», все время хочется спать. Ещё всё время холодно — это нервный озноб.
С личным пространством очень тяжело. Его практически нет. Например, кровати — хорошо, если это не так называемые «сварки», когда их сдвигают, потому что не хватает места. Двухэтажные кровати обычно стоят отдельно, между ними тумбочка — но соседняя кровать у тебя в любом случае на расстоянии вытянутой руки. У тебя нигде нет возможности остаться одной. Туалеты открытые, кабинок нет — ты даже там не можешь побыть одна. Ты всегда у кого-то на глазах — даже не потому, что за тобой кто-то следит, а просто потому что человеку некуда девать взгляд.
Привыкнуть к этому тоже практически невозможно. Хорошо, если ты научишься отгораживаться от этого внутренне — но не у всех получается. Я за семь лет так и не смогла привыкнуть. Я «старосидский старосид» — никто столько в изоляторе не находился, как мы. Естественно, новенькие девочки подходили — им казалось, что мы уже всё на свете знаем, и они начинали рассказывать про себя. Все истории как под копирку, сил слушать нет — и я научилась смотреть, слушать, но не слышать. Киваю головой, а мыслями совершенно в другом. Вернувшись домой, я себя еле-еле переучила.
Обратно адаптироваться было очень тяжело. На Можайке нет локальных зон, так называемых «локалок», куда во внерабочее время можно выйти из жилого корпуса, походить по территории зоны — по травке походить, под деревом посидеть, на небо посмотреть. В изоляторе это сделать просто невозможно. В общей камере сорок четыре кровати, на площади примерно в пятьдесят квадратных метров. Ты всё время в замкнутом пространстве. Тебя выводят на прогулку в закрытый дворик. Ты, может, видишь небо, но всё равно в четырех стенах.
Когда нас освободили, первое время я садилась у окна с кофе, сигаретой и просто смотрела, как мимо ходят люди. Это было просто непередаваемое блаженство, мне кажется, я чувствовала себя зверьком в зоопарке. Ещё я боялась одна выходить из дома. Дочь водила меня за руку. У тебя в подсознании настолько оседает, что нельзя брать то, что не ты положила («не тобой положено, не тобой возьмётся»), что ты думаешь, вообще брать ничего нигде нельзя. Мы зашли с дочерью в магазин, наверное, на третий или четвертый день. Я, как ребенок, люблю жвачки. Я сказала: «Маша, я так хочу жвачку!». Она ответила: «Возьми, какую хочешь». Я спросила: «Как возьми? Как я могу это взять?». Всё нужно перестраивать в голове.
Где-то через два месяца я начала искать работу. Мне казалось, что всё — я уже спокойно хожу по улице, ничего не боюсь. И только потом, спустя два-три года, я поняла, что никак тогда не адаптировалась — это мне хотелось так думать. Когда я приходила устраиваться на работу, мне задавали вопросы, я отвечала, и на меня косо смотрели — теперь я понимаю почему. Было такое несоответствие в моём рассказе: я что-то говорила о себе, а потом хлоп — и семь лет домохозяйка. А если ты говоришь, что семь лет сидела в тюрьме, как правило, сразу отказ. Людям вообще всё равно, какая ты умная, образованная, грамотная — сам факт ассоциируется у них с жесточайшей киношной уголовщиной.
Ещё когда я оказалась в местах лишения свободы, я не употребляла тюремный жаргон. Конечно, я все эти слова знаю, я слушала их семь лет. Но мне очень не хотелось, чтобы они вошли в мою речь, осели на подкорке — что я потом освобожусь и буду думать над каждым словом, как бы мне не проговориться.
Но бывает по-разному, люди разные. Например, у нас была девочка, её спросили: «Девочка, как тебя зовут?» — «Катя, Птичка» — «Девочка, а Птичка — это фамилия?» — «Это погоняло». То есть она уже подготовленная пришла. Или, например, была довольно взрослая девушка, с очень серьёзной статьёй — что-то с квартирными махинациями, было много трупов, не помню конкретно. Через пять месяцев она сказала: «Если бы я знала, что в тюрьме так, я бы давно села». Ей там было хорошо: кормят, поят, голова ни о чем не болит, она получала очень хорошие передачи. Люди разные. Есть такая пословица: «Для кого тюрьма — ловушка, для кого тюрьма — кормушка».
АЛЕКСАНДРА САВИНА
ИЛЛЮСТРАЦИИ: Аня Орешина
Семь лет
Нас было восемь девочек, мы занимались туризмом, работали в разных компаниях. Потом, как я понимаю, был какой-то передел собственности — а может, кто-то с кем-то не поделился. Придумали и возбудили уголовное дело по факту того, что фирма не выполнила условия договора с клиентом. На самом деле это гражданско-правовые отношения — но кому-то было нужно уголовное дело. Его возбудили против основателя всей большой компании. Он каким-то образом откупился, но взамен отдал нас — восемь женщин и одного мужчину. Что самое примечательное, конкретно против нас даже не возбудили уголовное дело, но тем не менее, мы получили срок.
Мы с первого дня следствия знали фамилию судьи и даже примерно понимали, сколько нам дадут. Но мы не верили следователям, мы верили в наш справедливый суд. Совершенно напрасно — был фарс. Два года, пока шли следствие и суд, мы отсидели в изоляторе, потом ещё два года на зоне, а потом нас опять этапировали в Москву, где предъявили ещё одно обвинение — по тем же делам. Но нам попался судья, который начал копаться в деле, и поэтому второй приговор был практически полностью оправдательным, с правом на реабилитацию. Тем не менее, пока все это происходило, прошло семь с лишним лет — пять из них я провела в СИЗО.
По первому приговору у меня была 4 часть 159 статьи УК РФ — мошенничество, совершённое группой лиц, в особо крупном размере. А по второму обвинению у нас помимо 159 статьи почему-то образовалась ещё 210 статья УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)». Естественно, по ней мы были полностью оправданы с правом на реабилитацию.
Девочки подавали в Страсбург (Европейский суд по правам человека — Прим. ред.), я дошла только до Верховного суда. Получила компенсацию — 120 000 рублей за семь лет. Пока шли первое следствие и первый суд, поддерживали родственники. А ко второму возможностей уже не было — не было денег, за четыре года всё уже было потрачено и продано. Ко второму суду мы были уже опытными, начитавшимися. На втором суде мы защищали себя сами и добились оправдания.
Правила
У женщин в заключении нет таких понятий, как у мужчин. Понятия предполагают строгое соблюдение и, может, даже дисциплинируют. У женщин такого нет, но есть некоторые негласные правила. В СИЗО первоходы — те, кто попадают туда в первый раз, — существуют отдельно от краток — тех, кто находится там второй раз и более. У краток по сути уже нет никаких правил, у первоходов они ещё есть. Например, спальные места: кто дольше там находится, у тех они более комфортные — подальше от двери и санузла, поближе к стенке. Все кровати двухэтажные, второй этаж — это так называемая «пальма». На нём в основном либо молодые, либо те, кто только что попали, как я их называла, «зайцы свежепойманные».
Ещё в изоляторе есть старшая в камере. Это выборная должность, но, как правило, старшая — та, кто устраивает оперативника. С неё будут спрашивать за всю камеру, она несёт ответственность — оперативник не будет ругать сорок человек в камере, а вызовет её и накажет. Оперативнику нужен человек, который умеет договориться с камерой и навести порядок. Наказывают строго. В мою бытность за непослушание одной девочки всю камеру — сорок два человека — со всеми вещами (с матрасами, сумками) заставили сделать три круга по изолятору, с первого по третий этаж. Поэтому нужна старшая, которая сможет держать дисциплину.
На зоне всё немного по-другому. Все женские зоны — так называемые «красные»: везде командуют бригадиры, командиры, председатели советов отрядов. Они, как правило сотрудничают с администрацией — иначе практически невозможно занять должность. Командуют они так: могут побить за плохую работу, могут поругать и так далее. Других порядков на зоне нет: ты просто должна хорошо работать и выполнять план. В мою бытность, например, был стопроцентный выход на работу. То есть если в отряде сто двадцать три человека — одна дневальная, а сто двадцать два выходят на работу на фабрику.
Я была в Можайской колонии, она всегда считалась образцово-показательной. В колонии было 1600 человек. Всего восемь рабочих отрядов: четыре работают в одну смену, четыре в другую. Еще есть один отдельный отряд — те, кто работают в медсанчасти, комнате свиданий, штабе, и пенсионеры. Им нельзя особенно общаться с остальной зоной, они живут в отдельном отряде, у них другой распорядок дня.
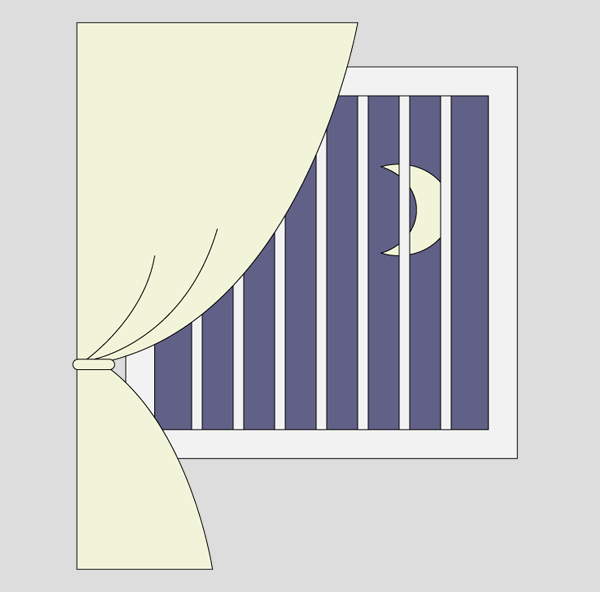
Помимо работы обязательно чем-то заниматься. Я, когда только приехала, сказала, что если я обязана работать, то подчинюсь, но больше от меня ничего не требуйте. Через некоторое время пришла на комиссию для перевода на облегчённые условия содержания. Начальник отряда дала мне характеристику: «Прибыла к нам, умная, грамотная, образованная. Мы думали, будет нам надежным помощником, а она заняла позицию наблюдателя, делать ничего не хочет». Мне сказали: ничего не делать и получить облегчённые условия содержания — так не бывает.
Я решила, что очень хочу домой, меня там ждут ребёнок и мама. Тогда я взяла на себя секцию досуга. В него входит всё, чем занимаются после работы — от отрядной стенгазеты до концертов. На Можайке очень много всего: в квартал бывает три концерта, два спектакля, три литературно-музыкальные композиции. Надо написать сценарии, распределить роли, уговорить девочек что-нибудь сделать. Но мне это было интересно. На это уходит время, у тебя есть хоть какая-то возможность самореализации, повод узнать что-то новое и заодно о чем-то рассказать. Например, оказалось, что многие девочки не знают, как правильно держать нож и вилку — я сделала литературно-музыкальную композицию на тему этики и этикета. Или, например, о Хемингуэе — многие вообще не знали, кто это. Считаю, что какую-то пользу я принесла.
В остальном распорядок дня, как в пионерском лагере: подъём, завтрак, построение. В изоляторе до обеда занимаются ничем — кто-то ждет адвоката, кто-то следственных действий, но как правило, они происходят очень редко. Потом обед и до ужина опять занимаешься ничем. После ужина можно расслабиться — уже никто не придёт — и девочки занимаются своими делами. В течение дня, например, вяжут — крючки выпиливают из зубных щеток пилкой для ногтей или делают из апельсиновых палочек для маникюра.
На зоне, конечно, всё по-другому. Там тебе не дадут скучать, у тебя не будет времени — и это хорошо, потому что оно хотя бы быстрее проходит. Время, которое остается между работой и сном, тоже нужно чем-то занять — можно убирать территорию, заниматься в какой-то секции, но ни в коем случае не праздно гулять.
Встречают по одёжке
Все девочки стараются за собой следить. Там всё это имеет другую цену: это не столько желание быть красивой, сколько защитная реакция. Женщина старается сохранить себя, быть в форме. Кто-то хочет освободиться и быть для этого красивой, а для кого-то причина — выезды в суд. Любой выход — это событие. Женщина должна быть с гордо поднятой головой, показать всему миру, что она сильная.
Весь внешний вид женщины — защитная реакция. Если есть возможность подкрасить глаза, она обязательно это сделает, приведёт в порядок волосы, подпилит ноготочки, сделает эпиляцию. Понятно, что она не может позволить себе одежду, которую хочет. Но она обязательно выберет из всех вещей, что у неё есть — спортивный костюм, джинсы, брюки — чистое. Гладить негде, но это раскладывают под матрасом, простыней, чтобы на этом поспать и оно прогладилось.
Пространство замкнутое, и возможностей мало. Соответственно, девочки начинают фантазировать. Например, меня там научили делать скраб, которым я пользуюсь до сих пор: спитой молотый кофе, соль, мед, жидкое мыло, сок лимона. Или укладка волос: лаки запрещены, но девочки используют для укладки, например, ополаскиватель для волос. Если некому передать бигуди, девочки делают папильотки — тряпочку режут на полоски и на них накручивают волосы, или в серединку этой тряпочки наматывают рулончик бумаги, чтобы было похоже на бигуди. Делают маски — из той же овсянки, благо каши разрешены. Девочки, конечно, стараются держать себя в форме.
У меня есть диплом парикмахера — я получила его давным-давно, сидя в декретном отпуске. Сделала это для себя — стригла родных и близких. А когда мы оказались в заключении, использовала. Раз в месяц, в неделю (как у воспитателя будет настроение), можно было попросить принести парикмахерские ножницы. Это самые простые, дешевые ножницы, которые сто пятьдесят раз роняли, которыми резали бумагу — они уже практически негодны. Но тем не менее, мы старались хоть как-то ими стричь — не у всех есть возможность оплатить тюремного парикмахера. Ножницы, как и нож, выдают под расписку.

Ещё стриглись лезвием. Лезвие выламывают из станка — конечно, это нарушение, и если с ним застукают, можно получить выговор, который повлияет на УДО. Но я это делала. Хочется, чтобы женщина приехала в суд, и на нее смотрели, как на человека.
Реакция на стрижки всегда положительная. Это изменение, которое подсознательно даёт надежду на масштабные перемены. Всё, что здесь нам кажется мелочью, там очень важно.
Администрация реагирует на прически совершенно спокойно, никаких проблем с этим нет. Девочки плетут косички, делают завитушки. Иногда специально делают смешно — контролеры улыбаются. Иногда это наоборот вызов: на голове сооружен дом, чтобы привлечь внимание, чтобы показать — вам не нравится, а я так буду делать. Я, например, никогда не делала африканские косички — и мне до смерти их захотелось. Благо, у меня много волос, они длинные — я попросила девочку мне их заплести. Мы делали это целый день, восемь часов — получилось 126 штук. Я две недели с ними ходила — кто мне запретит?
В тюрьме, как нигде, действует правило «встречают по одёжке». У меня были вещи, которые потом запретили, но они остались от первых передач — сапожки на каблучке, пальто, палантин. Я выглядела так, будто меня вчера арестовали, а не я сижу тут пять лет. И с тобой совершенно по-другому разговаривают, по-другому смотрят. Когда девочка приходит из СИЗО в шлёпанцах, потому что ей больше нечего надеть, спортивном костюме и чужой растянутой майке, её будут пинать, ей будут грубить. Почему-то всё так действует: если я хорошо выгляжу и на мне более-менее дорогие вещи, значит, я не бесхозная, за моей спиной кто-то есть — родственники, адвокат. А если нет — можно и попинать, и нагрубить.
Уход за собой
Можно пользоваться бритвой. В изоляторе, например, разрешены одноразовые станки. На зоне все одноразовые станки находятся в кладовке, которая называется каптёркой. Их каптёрщица выдает под расписку, когда ты идёшь в баню, в банный день — он один раз в неделю. Эпиляцию, как правило, все делают ниткой — находятся умелицы. Я, честно сказать, так и не научилась. Как правило, девочки из Средней Азии или Кавказа, где это распространено, всех обучают этому.
Никаких спортивных залов на зоне, конечно, нет. В СИЗО они есть, но за это должны заплатить родственники. Если возможности нет, девочки занимаются зарядкой в камерах. Есть так называемая «шконарная» гимнастика, от слова «шконка» — кровать. Её придумали давным-давно, передают друг другу — то, что можно сделать, не отходя от кровати: наклоны, планки, махи. Гантели делают из бутылок с водой, или засыпают пластиковые бутылки солью. На зоне делать гимнастику некогда — у меня, во всяком случае, было так.
Косметику тоже разрешают, её передают. Но есть ограничения. Если это кремы, они должны быть в пластмассовой упаковке, желательно прозрачной. Например, я пользовалась кремом, который тогда продавался только в металлических тюбиках. Моя мама покупала баночки для анализов и выдавливала его туда, чтобы пропустили. Шампуни, бальзамы — всё должно быть в прозрачных бутылочках. Декоративная косметика тоже разрешена, в изоляторе с этим проблем не было — но всё также должно быть в пластмассовой упаковке. Можно даже пилки для ногтей, но тоже не металлические, мягкие. На зоне проблем тоже нет — там даже больше, наверное, разрешено. Не было проблем даже с шампунями в непрозрачной упаковке — в них всё равно тыкают спицей, пробалтывают, смотрят. Пилки металлические, правда, и там нельзя — они относятся к колюще-режущим.
Лак для ногтей тоже нельзя. Помню, что меня отправили в тюремную больницу, на «Матросской тишине». Пока я там была, я попросила маму прислать мне лак для ногтей. Так как там женщин мало, и в комнате передач не очень понимают, что можно, а что нет, его пропустили. Я приехала из больницы с накрашенными ногтями, вся такая невозможно красивая. Конечно, там нет такой необходимости красить ногти. Но это был вызов — я ходила так, чтобы все контролёры видели, что у меня накрашены ногти. Сделать они ничего не могли, потому что я не здесь их накрасила, я такая приехала. Ты не можешь ничего предпринять, ты можешь только своим видом, выдержкой, стремлением, упорством показать, что ты человек, что ты не позволишь вытирать о себя ноги.
Вторая форма
С одеждой на зоне ситуация дурацкая. Выдают форму — под неё можно надеть футболку, колготки, зимой свитер (желательно тёмный, неяркий), они разрешены. Ты должна всегда быть в форме — в отряде, на фабрике, на улице, на построении. Как её стирать, непонятно — другую не дали. Соответственно, девочки начинают придумывать — либо выменивают у тех, кто освобождается, либо дополнительно шьют на фабрике. Мне сшили вторую форму за блок сигарет. Она была красивая, даже не соответствовала стандартам, но её не запрещали. Все знали, что это ворованная с фабрики ткань, украдкой сшитая на фабрике. Но главное, чтобы ты была аккуратная и чистая.
В белье нет ограничений — не то что слипы можно, а стринги нельзя. Девочкам, конечно, хочется красивое бельё — если есть такая возможность, родственники привозят. Обувь выдают, но такую, в которой, мне кажется, невозможно ходить. На осень это ужасные ботинки-бутсы, на зиму — войлочные сапоги «прощай, молодость». Летом, когда я пошла получать летние тапки, на коробках было написано «последний путь» — это не шутка. Они на бумажной подошве — не то чешки, не то какие-то непонятные тапки.
Ещё обувь можно получить, написав заявление на имя начальника учреждения, если у родственников есть возможность её привезти. У неё не должно быть каблука, в лучшем случае может быть невысокая танкетка. Обувь обязательно должна быть полностью закрытой. Если заявление не подпишут и не разрешат, будешь ходить в том, что выдали.

Гигиена
Никто в администрации не думает, что прокладки важны. Поэтому женщины заботятся об этом как могут. Кто-то на зоне на последние заработанные на фабрике копейки покупает себе только мыло и прокладки — это необходимо, без этого не обойдёшься.
Понятно, что прокладок нет у тех, кто не получает поддержки с воли, у кого нет передач. Соответственно, девочки зарабатывают. Допустим, кто-то вяжет, и это оплачивается — денег нет, но платят сигаретами, кофе, чаем или теми же прокладками. Кто-то покупает дежурства. Я тоже продавала дежурство — не потому что у меня много лишних сигарет и продуктов, а потому что когда я занялась досугом и мероприятиями, я физически не успевала заниматься уборкой.
Одно время начали выдавать наборы, в которые входила маленькая зубная паста (она напоминает гостиничную), самая простая зубная щётка, самые дешёвые отечественные прокладки и рулончик туалетной бумаги — той, которая похожа на наждачную. Это было хотя бы что-то, но потом их опять прекратили выдавать.
Чаще всего девочки делятся друг с другом. Например, я долго была старшей в камере в СИЗО. Я делала коробку — «общак». У кого-то зубная паста ещё не закончилась, а передали ещё две, у кого-то есть зубные щётки, что-то из белья. Когда новенькие девочки приходили, мы им из этой коробки выдавали комплект — пока к ним придут, пока принесут вещи. А принесут тебе — ты тоже положишь в коробку. А иногда девочки приходили издалека, из других городов — они не могли постирать бельё, потому что им просто не во что было переодеться.
Если в коробке не хватало, просили воспитателя принести гуманитарную помощь. Допустим, девочку арестовали летом, в шортах, в майке — а времена года быстро меняются. Если кто-то из девочек уехал на этап, оставив вещи — тоже отдавали новеньким.
Личное пространство
Первое время ты не знаешь, что происходит, как реагировать. У многих, я замечала, такая защитная реакция — стать «улиткой», все время хочется спать. Ещё всё время холодно — это нервный озноб.
С личным пространством очень тяжело. Его практически нет. Например, кровати — хорошо, если это не так называемые «сварки», когда их сдвигают, потому что не хватает места. Двухэтажные кровати обычно стоят отдельно, между ними тумбочка — но соседняя кровать у тебя в любом случае на расстоянии вытянутой руки. У тебя нигде нет возможности остаться одной. Туалеты открытые, кабинок нет — ты даже там не можешь побыть одна. Ты всегда у кого-то на глазах — даже не потому, что за тобой кто-то следит, а просто потому что человеку некуда девать взгляд.
Привыкнуть к этому тоже практически невозможно. Хорошо, если ты научишься отгораживаться от этого внутренне — но не у всех получается. Я за семь лет так и не смогла привыкнуть. Я «старосидский старосид» — никто столько в изоляторе не находился, как мы. Естественно, новенькие девочки подходили — им казалось, что мы уже всё на свете знаем, и они начинали рассказывать про себя. Все истории как под копирку, сил слушать нет — и я научилась смотреть, слушать, но не слышать. Киваю головой, а мыслями совершенно в другом. Вернувшись домой, я себя еле-еле переучила.
Обратно адаптироваться было очень тяжело. На Можайке нет локальных зон, так называемых «локалок», куда во внерабочее время можно выйти из жилого корпуса, походить по территории зоны — по травке походить, под деревом посидеть, на небо посмотреть. В изоляторе это сделать просто невозможно. В общей камере сорок четыре кровати, на площади примерно в пятьдесят квадратных метров. Ты всё время в замкнутом пространстве. Тебя выводят на прогулку в закрытый дворик. Ты, может, видишь небо, но всё равно в четырех стенах.
Когда нас освободили, первое время я садилась у окна с кофе, сигаретой и просто смотрела, как мимо ходят люди. Это было просто непередаваемое блаженство, мне кажется, я чувствовала себя зверьком в зоопарке. Ещё я боялась одна выходить из дома. Дочь водила меня за руку. У тебя в подсознании настолько оседает, что нельзя брать то, что не ты положила («не тобой положено, не тобой возьмётся»), что ты думаешь, вообще брать ничего нигде нельзя. Мы зашли с дочерью в магазин, наверное, на третий или четвертый день. Я, как ребенок, люблю жвачки. Я сказала: «Маша, я так хочу жвачку!». Она ответила: «Возьми, какую хочешь». Я спросила: «Как возьми? Как я могу это взять?». Всё нужно перестраивать в голове.
Где-то через два месяца я начала искать работу. Мне казалось, что всё — я уже спокойно хожу по улице, ничего не боюсь. И только потом, спустя два-три года, я поняла, что никак тогда не адаптировалась — это мне хотелось так думать. Когда я приходила устраиваться на работу, мне задавали вопросы, я отвечала, и на меня косо смотрели — теперь я понимаю почему. Было такое несоответствие в моём рассказе: я что-то говорила о себе, а потом хлоп — и семь лет домохозяйка. А если ты говоришь, что семь лет сидела в тюрьме, как правило, сразу отказ. Людям вообще всё равно, какая ты умная, образованная, грамотная — сам факт ассоциируется у них с жесточайшей киношной уголовщиной.
Ещё когда я оказалась в местах лишения свободы, я не употребляла тюремный жаргон. Конечно, я все эти слова знаю, я слушала их семь лет. Но мне очень не хотелось, чтобы они вошли в мою речь, осели на подкорке — что я потом освобожусь и буду думать над каждым словом, как бы мне не проговориться.
Но бывает по-разному, люди разные. Например, у нас была девочка, её спросили: «Девочка, как тебя зовут?» — «Катя, Птичка» — «Девочка, а Птичка — это фамилия?» — «Это погоняло». То есть она уже подготовленная пришла. Или, например, была довольно взрослая девушка, с очень серьёзной статьёй — что-то с квартирными махинациями, было много трупов, не помню конкретно. Через пять месяцев она сказала: «Если бы я знала, что в тюрьме так, я бы давно села». Ей там было хорошо: кормят, поят, голова ни о чем не болит, она получала очень хорошие передачи. Люди разные. Есть такая пословица: «Для кого тюрьма — ловушка, для кого тюрьма — кормушка».
АЛЕКСАНДРА САВИНА
ИЛЛЮСТРАЦИИ: Аня Орешина
Взято: Тут
673