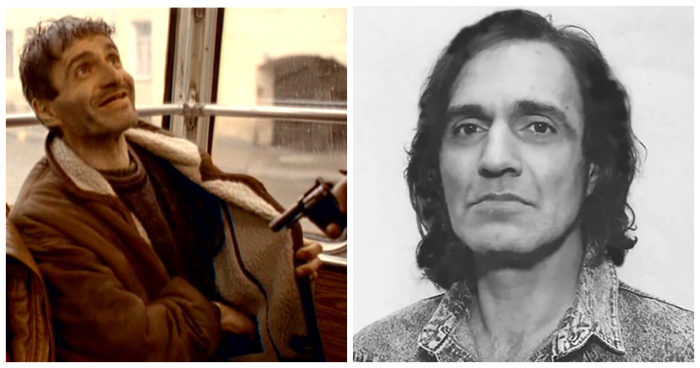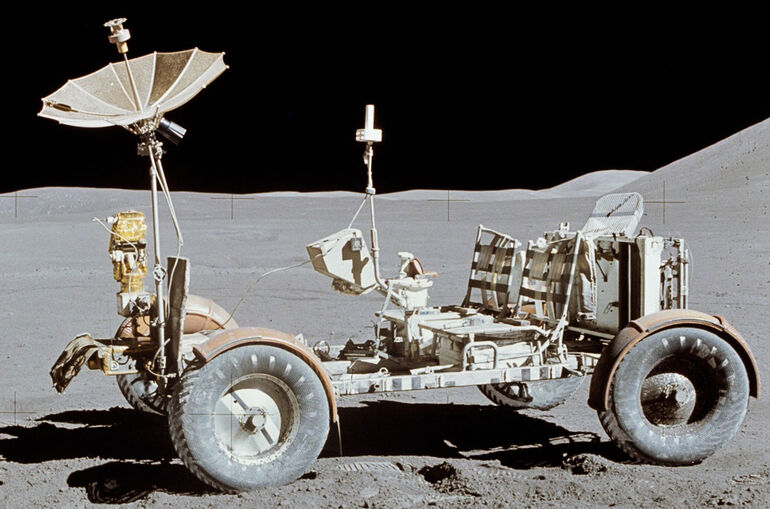Migera
Гостинцы для бабушки Таисии ( 1 фото )
Каждые пять лет я езжу в славный город Киров на встречу со своими друзьями-однокурсниками. Виды, мелькающие за окнами поезда эти двое суток пути, навевают воспоминания, возвращая меня в молодость…

В тот последний день апреля электричка несла меня, двадцатидвухлетнего паренька, в мою «охотничью вотчину», неподалеку от которой спряталась маленькая деревушка со смешным названием Толстик.
В рюкзаке, из которого торчал чехол с ружьем, ехали в эту окруженную сосновыми борами и моховыми болотами вятскую глубинку гостинцы для бабушки Таисии, неожиданно ставшей для меня родным человеком…
Как-то зимой заплутали в окрестных лесах со своим дружком и опоздали на электричку. Пришлось вернуться в Толстик, чтобы попроситься к кому-нибудь на ночлег.
Уже тогда в Толстике оставалось всего-то две жилых избенки. В одной из них нам открыла дверь опрятная старушка.
Узнав о нашей нужде, строго отчитала нас за легкомысленное шастанье в стужу по лесам, но тут же впустила в натопленную прибранную избу с беленой печкой, полатями, занавешенными шторками, с застеленным выбитой скатертью столом и такими же занавесочками на окошках.
С той поры бабушка Таисия стала для меня человеком, к которому я (тогда еще стесняясь признаться себе) испытывал сыновьи чувства.
В Кирове жил ее сын, но, как это иногда бывает, нечасто навещал ее, а она, обремененная небольшим, но хлопотным хозяйством, козой и овечками, редко позволяла себе вырваться к нему и внукам. Наверное, поэтому мои визиты были ей в радость.
Вспоминаю, как она, зная, что приеду к ней в очередную субботу, после занятий, чтобы проверить путик с капканами на куницу, готовила вкуснейшие шанежки и с умилением наблюдала, как я уплетал их с большим аппетитом. Как я ей благодарен!
В этот раз я рассчитывал заскочить к бабушке Таисии всего на минутку, отдать гостинцы: баночку айвового варенья и пахнущие весенней свежестью огурцы, выращенные моими родителями в теплице в далеком кубанском городке.
А еще я вез давно обещанный отрывной календарь, который до этого непростительно забывал в общаге. Далее планировал уйти в лес, прослушать подлет глухарей на ток, дождаться у костра зарю, добыть петуха и вернуться утренней электричкой в Киров.
Бабушки дома не оказалось. Она была непоседой и вполне могла выбраться в лес за строчками или уйти в поселок за чем-нибудь необходимым. Сени были прикрыты лишь на засов, а на двери висел замок.
Мне доверили в свое время «тайник», где лежал ключ, но я решил оставить гостинцы перед дверью в чугунке, прикрыв его крышкой.
«Увидит календарь, догадается, кто заходил», — улыбнувшись и предвкушая бабушкину радость, я поспешил через оттаявший луг к опушке стройного соснового леса, за кромку которого опускалось вечернее солнце.
Приметив на гривке поодаль от токовища выворотень, я обустроил возле него бивуак: собрал валежник на костер, нарезал пахучего пихтового лапника, приладил рогульку под котелок, в который набил чистого засахаренного снега с нутра оседающего сугроба.
Спустя четверть часа, притаившись на краю болота, поеживаясь от холода, я стал слушать лес. Шумели, квохча и перелетая с места на место, капалухи, отовсюду слышались шорохи, писки.
Сонная птичья перекличка утихала в фиолетовых сумерках. Рядом захрустел прихваченный вечерним морозцем беломошник. Это, не замечая меня, спешила по своим делам куница в поблекшем и вытертом за зиму по дуплам мехе.
«Где же петухи, неужели не запоют?» — переживал я за успех своей охотничьей вылазки. Погода предвещала быть сказочной: полный штиль, на небе ни единого облачка.
И вот только замерцали далекие звезды в утонувшем в морозной дымке болоте, щелкнуло раз, другой, третий, и уже с нарастающей уверенностью и отточенной с древности ритмикой посыпалась, заскрежетала и вновь защелкала волшебными кастаньетами царь-птица глухарь.
Я ликовал, словно уже держал его в руках, не смея усомниться в том, что удача улыбнется мне на заре.
Расположившись на лапнике, щурясь от удовольствия, я прихлебывал чай и дымил сигаретой, глядя, как языки костра поглощают валежник. Тепло походного огня убаюкивало.
Мысли то с ленцой пробегали по делам общажным, то тешили тщеславием: «Не каждый сможет вот так, в одиночку, коротать ночь у костра в глухом лесу», то заботливо заглядывали в светящееся окошко избы бабушки Таисии — как она там, увидела ли мои гостинцы, а то щемящей тоской улетали за тысячи верст к родному дому, к маме и сестренке…
Вздрогнув от неожиданно стрельнувшего уголька или шороха в черной глубине леса, я возвращался из забытья к реальности. Взглянув на циферблат часов, с огорчением отметил, что не прошло и часа, и вспомнил свою бабушку, всегда сетующую на то, как быстро бежит время…
Потянуло холодом. Дрова прогорели. Угли переливались в подступившей темноте причудливыми сполохами. Лапа пихты, брошенная в потухающий костер, зашипела разогретыми эфирными маслами и, затрещав, вспыхнула, словно щепотка пороха, откинув тьму на несколько метров вокруг.
До рассвета оставалось еще много времени, но не было сил ждать этот урочный час. Заставил себя согреть и попить чай (больше для того, чтобы убить время), закидал кострище остатками сугроба и оправился на ток. «Посижу там, а то вдруг просплю!» — оправдывал я свое решение.
Граница болота угадывалась по разреженному лесу и запаху сфагнума. Прислонившись к сосне, я поднял воротник бушлата — от промозглости, а может, и от волнения стало знобить. Где-то на пределе слуха бубнили тетерева. Неужели светает? Пора бы и моему глухарю запеть…
И тут меня словно кипятком ошпарило — а вдруг его ночью спугнули: лось или тот же филин?!. Но этой ужасной мысли не суждено было измотать мою психику — глухарь запел.
Сначала так же осторожно, как и вечером, будто подбирая ноты, настраивая свои инструменты, затем все увереннее, и вскоре колдовские звуки неудержимо заполнили весь окружающий мир, овладев моим рассудком, пробудив древний инстинкт, толкнувший меня на выверенный пращурами танец — подскок к этой осторожной птице сурового леса.
Спустя время, я уже стоял под сосной, на вершине которой выводил свою песню глухарь, и даже начал различать на фоне светлеющего неба его картинный силуэт, но медлил с выстрелом. Меня, с трудом добравшегося до вожделенной цели, казалось, вкрадчиво уговаривал кто-то: «Не стреляй!
Зачем он тебе? Ты уже не раз добывал глухарей. Ты и этого победил. Разве тебе недостаточно всего, что было?»
Я, стряхнув с себя минутное наваждение, нажал на спусковой крючок. Не знаю, что больше меня ошеломило в этот миг: то ли грохот выстрела, то ли вид мошника, обрушившегося вниз, как дар свыше.
На песчаной гриве я присел «на дорожку», прощаясь с лесом до осени, и, глянув на часы, чуть ли не бегом поспешил на полустанок.
Когда я вышел к опушке, было совсем светло. На лугу травы, придавленные стаявшими снегами, серебрились изморозью, улюлюкая, кружились чибисы, токовал бекас. Над трубой избы бабушки Таисии поднимался дымок, подкрашенный розовыми первыми солнечными лучами. Мне стало хорошо и невероятно легко на душе.
Остатки тревожных мыслей растаяли, я был очарован весной, поглощен приятными переживаниями охоты и предвкушением скорой встречи с друзьями.
Перейдя луг, я оглянулся. Солнце поднималось над лесом. Возле своей избы стояла бабушка Таисия в вязанном из белого козьего пуха платке и смотрела в мою сторону. Узнала она меня издали или нет? Я был в растерянности: завернуть к ней хоть на минутку — значит опоздать на электричку; пройти мимо (даже страшно подумать) — значит обидеть.
Вдруг я увидел, что она машет мне рукой и, кажется, улыбается своей теплой улыбкой. Я тут же побежал к ней, подпрыгивая от счастья, как дитя, завидевшее после долгой разлуки дорогого человека.
С тех пор, подъезжая к памятному мне километру железнодорожного (так и хочется сказать — жизненного) пути, я выхожу в тамбур, чтобы никто не заметил моей взволнованности, и смотрю на проплывающие за окном сосновые леса, вспоминаю былое.
Каждый раз при этом замечаю, что все труднее узнаю промелькнувший полустанок, от которого ведет тропинка к тому месту, где я был когда-то счастлив — к деревушке с добрым названием Толстик.
Автор: Алексей Мирончук

В тот последний день апреля электричка несла меня, двадцатидвухлетнего паренька, в мою «охотничью вотчину», неподалеку от которой спряталась маленькая деревушка со смешным названием Толстик.
В рюкзаке, из которого торчал чехол с ружьем, ехали в эту окруженную сосновыми борами и моховыми болотами вятскую глубинку гостинцы для бабушки Таисии, неожиданно ставшей для меня родным человеком…
Как-то зимой заплутали в окрестных лесах со своим дружком и опоздали на электричку. Пришлось вернуться в Толстик, чтобы попроситься к кому-нибудь на ночлег.
Уже тогда в Толстике оставалось всего-то две жилых избенки. В одной из них нам открыла дверь опрятная старушка.
Узнав о нашей нужде, строго отчитала нас за легкомысленное шастанье в стужу по лесам, но тут же впустила в натопленную прибранную избу с беленой печкой, полатями, занавешенными шторками, с застеленным выбитой скатертью столом и такими же занавесочками на окошках.
С той поры бабушка Таисия стала для меня человеком, к которому я (тогда еще стесняясь признаться себе) испытывал сыновьи чувства.
В Кирове жил ее сын, но, как это иногда бывает, нечасто навещал ее, а она, обремененная небольшим, но хлопотным хозяйством, козой и овечками, редко позволяла себе вырваться к нему и внукам. Наверное, поэтому мои визиты были ей в радость.
Вспоминаю, как она, зная, что приеду к ней в очередную субботу, после занятий, чтобы проверить путик с капканами на куницу, готовила вкуснейшие шанежки и с умилением наблюдала, как я уплетал их с большим аппетитом. Как я ей благодарен!
В этот раз я рассчитывал заскочить к бабушке Таисии всего на минутку, отдать гостинцы: баночку айвового варенья и пахнущие весенней свежестью огурцы, выращенные моими родителями в теплице в далеком кубанском городке.
А еще я вез давно обещанный отрывной календарь, который до этого непростительно забывал в общаге. Далее планировал уйти в лес, прослушать подлет глухарей на ток, дождаться у костра зарю, добыть петуха и вернуться утренней электричкой в Киров.
Бабушки дома не оказалось. Она была непоседой и вполне могла выбраться в лес за строчками или уйти в поселок за чем-нибудь необходимым. Сени были прикрыты лишь на засов, а на двери висел замок.
Мне доверили в свое время «тайник», где лежал ключ, но я решил оставить гостинцы перед дверью в чугунке, прикрыв его крышкой.
«Увидит календарь, догадается, кто заходил», — улыбнувшись и предвкушая бабушкину радость, я поспешил через оттаявший луг к опушке стройного соснового леса, за кромку которого опускалось вечернее солнце.
Приметив на гривке поодаль от токовища выворотень, я обустроил возле него бивуак: собрал валежник на костер, нарезал пахучего пихтового лапника, приладил рогульку под котелок, в который набил чистого засахаренного снега с нутра оседающего сугроба.
Спустя четверть часа, притаившись на краю болота, поеживаясь от холода, я стал слушать лес. Шумели, квохча и перелетая с места на место, капалухи, отовсюду слышались шорохи, писки.
Сонная птичья перекличка утихала в фиолетовых сумерках. Рядом захрустел прихваченный вечерним морозцем беломошник. Это, не замечая меня, спешила по своим делам куница в поблекшем и вытертом за зиму по дуплам мехе.
«Где же петухи, неужели не запоют?» — переживал я за успех своей охотничьей вылазки. Погода предвещала быть сказочной: полный штиль, на небе ни единого облачка.
И вот только замерцали далекие звезды в утонувшем в морозной дымке болоте, щелкнуло раз, другой, третий, и уже с нарастающей уверенностью и отточенной с древности ритмикой посыпалась, заскрежетала и вновь защелкала волшебными кастаньетами царь-птица глухарь.
Я ликовал, словно уже держал его в руках, не смея усомниться в том, что удача улыбнется мне на заре.
Расположившись на лапнике, щурясь от удовольствия, я прихлебывал чай и дымил сигаретой, глядя, как языки костра поглощают валежник. Тепло походного огня убаюкивало.
Мысли то с ленцой пробегали по делам общажным, то тешили тщеславием: «Не каждый сможет вот так, в одиночку, коротать ночь у костра в глухом лесу», то заботливо заглядывали в светящееся окошко избы бабушки Таисии — как она там, увидела ли мои гостинцы, а то щемящей тоской улетали за тысячи верст к родному дому, к маме и сестренке…
Вздрогнув от неожиданно стрельнувшего уголька или шороха в черной глубине леса, я возвращался из забытья к реальности. Взглянув на циферблат часов, с огорчением отметил, что не прошло и часа, и вспомнил свою бабушку, всегда сетующую на то, как быстро бежит время…
Потянуло холодом. Дрова прогорели. Угли переливались в подступившей темноте причудливыми сполохами. Лапа пихты, брошенная в потухающий костер, зашипела разогретыми эфирными маслами и, затрещав, вспыхнула, словно щепотка пороха, откинув тьму на несколько метров вокруг.
До рассвета оставалось еще много времени, но не было сил ждать этот урочный час. Заставил себя согреть и попить чай (больше для того, чтобы убить время), закидал кострище остатками сугроба и оправился на ток. «Посижу там, а то вдруг просплю!» — оправдывал я свое решение.
Граница болота угадывалась по разреженному лесу и запаху сфагнума. Прислонившись к сосне, я поднял воротник бушлата — от промозглости, а может, и от волнения стало знобить. Где-то на пределе слуха бубнили тетерева. Неужели светает? Пора бы и моему глухарю запеть…
И тут меня словно кипятком ошпарило — а вдруг его ночью спугнули: лось или тот же филин?!. Но этой ужасной мысли не суждено было измотать мою психику — глухарь запел.
Сначала так же осторожно, как и вечером, будто подбирая ноты, настраивая свои инструменты, затем все увереннее, и вскоре колдовские звуки неудержимо заполнили весь окружающий мир, овладев моим рассудком, пробудив древний инстинкт, толкнувший меня на выверенный пращурами танец — подскок к этой осторожной птице сурового леса.
Спустя время, я уже стоял под сосной, на вершине которой выводил свою песню глухарь, и даже начал различать на фоне светлеющего неба его картинный силуэт, но медлил с выстрелом. Меня, с трудом добравшегося до вожделенной цели, казалось, вкрадчиво уговаривал кто-то: «Не стреляй!
Зачем он тебе? Ты уже не раз добывал глухарей. Ты и этого победил. Разве тебе недостаточно всего, что было?»
Я, стряхнув с себя минутное наваждение, нажал на спусковой крючок. Не знаю, что больше меня ошеломило в этот миг: то ли грохот выстрела, то ли вид мошника, обрушившегося вниз, как дар свыше.
На песчаной гриве я присел «на дорожку», прощаясь с лесом до осени, и, глянув на часы, чуть ли не бегом поспешил на полустанок.
Когда я вышел к опушке, было совсем светло. На лугу травы, придавленные стаявшими снегами, серебрились изморозью, улюлюкая, кружились чибисы, токовал бекас. Над трубой избы бабушки Таисии поднимался дымок, подкрашенный розовыми первыми солнечными лучами. Мне стало хорошо и невероятно легко на душе.
Остатки тревожных мыслей растаяли, я был очарован весной, поглощен приятными переживаниями охоты и предвкушением скорой встречи с друзьями.
Перейдя луг, я оглянулся. Солнце поднималось над лесом. Возле своей избы стояла бабушка Таисия в вязанном из белого козьего пуха платке и смотрела в мою сторону. Узнала она меня издали или нет? Я был в растерянности: завернуть к ней хоть на минутку — значит опоздать на электричку; пройти мимо (даже страшно подумать) — значит обидеть.
Вдруг я увидел, что она машет мне рукой и, кажется, улыбается своей теплой улыбкой. Я тут же побежал к ней, подпрыгивая от счастья, как дитя, завидевшее после долгой разлуки дорогого человека.
С тех пор, подъезжая к памятному мне километру железнодорожного (так и хочется сказать — жизненного) пути, я выхожу в тамбур, чтобы никто не заметил моей взволнованности, и смотрю на проплывающие за окном сосновые леса, вспоминаю былое.
Каждый раз при этом замечаю, что все труднее узнаю промелькнувший полустанок, от которого ведет тропинка к тому месту, где я был когда-то счастлив — к деревушке с добрым названием Толстик.
Автор: Алексей Мирончук
Взято: Тут
61